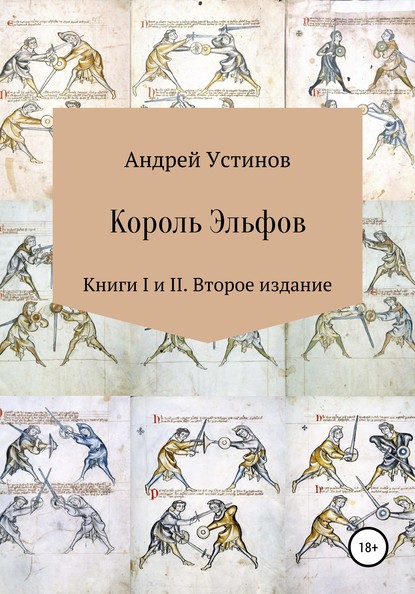По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Клевин слепо сунул кому-то зевающему нецеремонно выдернутую у меня подзорницу, но было совершенно невозможно серчать – столе эльф воскрылился гением (ну, латейское словцо – бо душа ли, когда очнулась?)… ах, обнял горячливо за озяблые плечи и повлек к затухающему кострищу, путано и восторженно пересказывая легенду, размахивая десницей першащий ще сизый дымец:
– Ах, Гаэль, мне кукамай-ба еще памятовала в зеленушные-то годы, в августейшие зарничные ночи, когда звери охочие шастают за избушкой, когда сам ваш Глах на топчане ворочается! И думался, – хотя молчал почитательно! – думался, то сказицы благочинные…
– …и так глаголила седым уже голосом, знаешь ли, когда монотонно и бессвязно будто, ах, будто вирши древние, где только ритм и чуешь: и осерчал Глах на невейских язычников, вот так Метару обидевших, и выдернул у ней из высокой прически желтокаменный гребенец, и воткнул сей гребень во грань Невозера, где широкой Невицы быш водосток, и запрудил; и рассыпались серые Метаровы косы и, прибиралась пока, неделю проливался дождь по Альтовой веси; и стало озеро полниться и излилось с севера новоречьем, что нарекли мы Авицей, и авентийцы все благословили ярый Глахов урожай, а невейцы все утратили свое земледелие; и бывши ще с ними на делянке Король Эльфов, и молвил он…
Ах! Ну что за егерь-молодец! Как сие было мило, ще больше сближало Клевина со мной, тоже от сказочницы-кормилицы все лучшее впитавшего! А-а, зеленушные годы? То у эльфов-лесовиков обычай смешной: мальцов на праздные дни в салатные одежки наряживать!
7
Что же – много мы еще судачили на обратном пути, но перелистнем страницу. Ибо воспоминания – как книжка с картинками, яркими и настоль живыми, чтобы нырнуть хотелось в каждую с головой. И пускай сия картинция меня не очень-то красит, так и что же? Уже каждая частица кожи по сто раз сменилась на моих ладонях, и тот губошлеп Гаэль – лишь страница, лишь картинка, лишь воспоминание.
Итак…
– Ааа! – запел страшенным голосом черный бородач, в ком зрители давно разознали ряженого Левита (знать, любимца!) и довольственно свистели в четыре пальца. Самые мастера ще притопывали правой-левой, раскачиваясь аки птенцы-головотрясы и придавая свисту ритмовые вибрации: фьюфьюфьююю! та-та-таам! – Ааа! Виновны по седьмую поросль! Ибо от матерей и впитают злое безбожие!
Девушка в солнечной робе, выражавшая Метару, трепетно повисла у мнимого бога на руке, кротко поглаживая плечо господина. Настолько забывши (ради блаженствия мужа) об охряном росплеске волос, бездарно волочащихся по драной доске, что ворохом вершились на героя шутовские пучки мятой травы и смешки от подружек невесты (особо круглолицая голубоглазка была ох мила!): Охолонись, Глах! Женобо-о-ор!
Ах, в голове царила праздничная неразбериха! И толь-толь тысячи цветастых деталей радовали глаз, и толь-толь тысячи звучных отголосков пестовали слух, что щурился (как бывает, когда на яркое солнце глазишь) и сам тряс той-дело туманной головой, и представление понимал с пятого на десятое.
– Ааа! – веселился Левит, входя в раж и роль, вперебой толпы увлеченно громыхая сапогом о прибитый к декорации медный щит (Та-Та-Таам кантованным сапожищем-то!), да еще полоща по воздуху голубой тряпкой, случайно попавшей в руку… То ли небесным знаком? Ах, то была Метарова накидка, захваченная, пока небесный герой гребень ейный имал из высокой прически! Девоньки поближе той-дело привскакивали, тща украсть мелькающий край, так что Левиту изрядно приходилось потеть! Так и бычился оглашенно по сцене, покуда не ткнулся кроваво-налитым взором (ну, подкрасился!) в молодцеватого эльфа, незвано пересекавшего путь: – Аа! Ты ли, эльфов король, земной недомерок, лучше подскажешь?
– Благословен будь, господин мой Глах! – потворственно вторил эльф с золотой клееной бородкой, почтенно переминаясь в трех шагах и теребя церемониальный колпак с волочащимися защитными наушинами… Войлочный колпак этот, называемый кулах, особо добавил хохота и знатоки сюжета остроумничали наперебой: Задури его! На всякого глаха найдется кулаха!
По чести, в Коголане видывал я актерства и краше, да зато собратья-эльфы веселились от души! Особо-то, подле раскупоренных бочек верхового эля – веселье ажно томилось в воздухе золотистыми медовыми пузырьками! И наряды друзей (с каждым-то глотком!) ярчели на радушном солнце зеленью и синью, подсолнухом и фиалицей, рунницей и косичкой! Ах, и простоватый народ, но и со светлой сердцевиной, так-то вживаясь в бабушкину сказку!
– Благословенна и богиня твоя! – продолжал плести златобрадый, начерпывая меж делом Глаху-Левиту златорунную, трикратную против людской кружку амброзии. – И не возмужусь воскучивать облака криком грома, но все же богу богово! А людские делишки мне, пожалуй, неплохо ведомы! Как же запойные бестолочи?! А не! – Тут изогнулся хитро, будто златозелье почтительно поднося, будто ще и больше пытаясь польститься: – А поверишь ли, что недомерок твой вот каменец дальше чтимого бога бросит?
– Ааа! – Левит радостно фыркнул, сдунув пену в хохочащую публику (запойные бестолочи!), и под восторженные пей-до-дна, пей-до-дна, пей-до-дна… я и сам-то отхлебнул! Как бы выцедить кружбанчик за раз и показалось главнейшей развязкой поэмы! Аах, хорошо-о! И грозельный Глах на подмостках также выдохнул, добродушно рыгая от пуза: – Как смешон ты, златоуст! Но послушаю я жену свою, ибо она источник благословений моих!
(А знамо ли вам? Вестно ли вам, что Глах-то во младенчестве воскормлен был не млеком, а верховым пивом, кое матерь его источала, бо столь богатый был урожай тем лиственем, что сами реки пенились нежной брагой?! И что едно священное средство успокоить гневного божеца раскрыла благая Метара подчиненным народам – угостить его идола из земной реплики самопийно… тьфу! самостийно сработанного ею на гончарном круге небес златозакатного кубка!)
… и неженно принял в тяжелые руки девичьи пряди, и закрутил на бычью шею солнечным ожерельем, и закружил Метару по сцене золотым колесом. Невестичный ряд наискосок тож-тож зажегся неуемным взвизгом, прямо читалось по ярким их губам: Слушайте! Ура Глаху! Ура Левиту!
Эльфица же, раскружась ще обратно, но не теряя с Глахом-Левитом золотистой связи, бо куда она от власти мужниной, обежала краткую сцену, бо в сомнениях и советуясь с подругами, и вновь нежно припала к державному супружнику, что-то шепоча в косматое ухо.
Ах, то ли слышать хуже стал? Что же… Девчушка в бежевом-то сарафанце, что щедро щебетала с подружками через пару тесаных бревен пониже от меня (а бревна непросты! как молвил Левит, когда побратались вечор и поможали растаскивать по поляне сии сидушки, ще пойдут молодоженам подарком на летний терем)… аще мила! а не в баньке ли давеча нежила его? как же? Алора? Алоза?.. ах, ну да, и привскакнула вдруг пичливо, да заложила пальцы-мальцы в рот и засвистела будто? Но вот – не слышалось ни глаха и ни праха, как говорится, а только ветреный шум вдруг, да и солнце в глазах забилось нежданно яркими лесками. Ах, не надо было так нажориваться свежесправленными скворцами! Но право – в тимьяне и кервеле, да элем политы, да в горчеливой шалфейной оборотке, да ну-ка удержись! Тушек ли двадесять смолотил? И вот будто вертопрашили и бузотерили ныне в желужонке, будто пробуя летать, а то ли полощились-купались в элевом разливце! Ха-ха, ох, Глаше, помилуй мя!!!
– Поделом! – громогрянул тут Глах (ах, ну Левит, то есть! Уф! Вот же бошку задурачило!). Вот же голосище – ажно уши прочистились с боем! И снова добрый детина забычил было сапогом во щит (и башка чуть не треснулась звоном), но Метара опять зашептала жарко в ухо…
– А-а-а! Звиняйте! Имел сказать: Заметано! – божок повел наискосок кружкой, расплеснув пивные сливки прям по довольным ребячьим рожицам, что ютились прям на земле перед помостом. Тоже ли перебрал! Ха-ха, Глаше!
И бумкнул-таки носком во щит для пущего куражу! Ах, вообще хороший вышел праздник! Жаль вот, что мои друзья поразбежались: Клевин-то с утреца со звездочкой свойной блаженствует на жениховой трибуне, Левит вон божеским нарядом на сцене куролесит, а Пертик-Витар сю минуту здесь были, хохотали в ухо, да пришел их черед лагерь караулить. Дело мне известное, сам в Метаре настрадался! А то – хороший праздник! И гадание было на ольхе и ясени (бо не знали вы? то эльф и эльфица – ясень и ольшица!), а ладилось так: на костре две плашки молодых поджигают, как будто любовью, и смотрят затем, чтобы трещинки сходно шли: бо разломит потом жрица (а сама Эйла была!) дощечки, да и сложит их краями, и совпали толь знатно, что Клевин с молодой девой под радужной фатой ажно расплакались звонко! Потом еще подарки даровали от каждой гильдии… Что там было? Как выше говорено, от лесорубов ще вышел дом тесаный, только бревнышки обратно поскладать! И узнал я, что и гильдия охотников-буканов (а кратче, ярых контрабандников! ха! а думал ще – бабушкины россказни!) тожно числилась. Вот натарили ярких безделушек к семейному очагу – яко вот оберег Мокоши из заморейской бело-гладкой кости (небось, из бивня карличного стегодона минутуса, хотя раскраски в ликейоне и учили, что сказки это все). Ах, ну вот! Потом и я наконец вызван был белоодежным жрецом-глашатаем и презентовал некий сверток, что Элизер запретил рассвертчивать до: и вышли чудесные часы Любви! Ах, точно как обычные песчаные меры, да наоборот! Едва расстелились все златопесчинки понизу, то подойдите оба и возложите белы руци на верхушку из поясничного камня, чтобы грели дружку, и (коли ярка любовь) удивитесь ще, как золотые искры сами потянутся ввысь волшевейным вздохом! О как все повскакали глазеть на Елизерово чудо!
А теперь-то толпа всполошилась и повалила вслед за актерами к ристалищному краю, где помост подвис над длинным косогором. Побежался и я, неловкостно уронив кружбан на лодыжку… ах!.. и скользя по растоптанной в грязь белосочной траве и махаясь руками на взбудораженных пивных мух и даже остановиться мог лишь обнявши с ходу такого же нестойкого парубка. Еле выправились мы оба! Голова, ах, будто вдруг перевешивала! И черные точки замельшили в глазах. И на трех шагах эдак кишки прихватило, что желался, пардон, уже присесть по делам, но так вот затолкался в самую живую середку, что осталось (напрягаясь, п-п-пардон, всей задницей) глазеть кой-как через колышащиеся (то девчонки все подпрыгивали, подпрыгивали, подпрыгивали, от чего ще больше мутило!) головы, головы…
А ристалище начиналось.
Первым Левит, забывши слегонца роль, воздел/обнажил бицепсы к небу и возопил истово: – О, дай мне силы, Глах! – на что толпа живо отозвалась ободряющими непристойностями. Ну, как непристойностями? Без базарных словесностей, все-ж-таки эльфы-эльфы, но актерское величие соблюдено не было! На миг забывшись о животе, опять я подивился: эльфы были что разноцветные луковы и луковки! Вот ты первую одежку отреши мысленно (как Элизер учил), а там уже другая вовсе! То мистерии, а то народные радости! Как будто семь душ у них, и согласно еtat de choses (бишь, положению дел) нужную накидочку легко вытаскивали на божий свет!
Подобрав камень размером с голову откормленного жертвенного бычка, воссоединившийся Глах-Левит гикнул зычно и от-плеча-да-с-разворота киданул тяжесть вдоль узкого ручья, сейчас знаменующего былую Невицу. Ах! Аж земля грязью брызнула, когда ударился булдыган о ейный бок, и будто поежилась, и откинула божий дар дальше в русло, где камень и встрял после рассерженных брызг и неловких переворотов.
– А-а-а! – гордо возопил Глах, колотясь в грудину кулаком. Там, видать, чтой-то было поддето, ибо громко зазвенелся медью, как и положено пафосному протагонисту! Но толпа, что гадать, болела за крашеного Короля и заропотала беспокойно: ах, бросок Левита вышел куда неплох! сможется ли Король? Рыжебородый парень тоже кичился мускулом (к некоторой ревностной досаде, покрепче моего), но до силача Левита – ах, точно было как до Глаха! Как же победит?
Король-актер и сам развел трикратно руками и потер бледный лоб и демонстрировал некое смущение (ох, дурень, а зачем вызывался?), но поколь Левит гордо окруживал сцену, ритмовно молотя себя по медному чревосплетению, красавица-плутовка-Метара (ах, выпроставшись от мужа во всю длину золотых кос!) подскочила в два легких шажка и чтой-то подсказала герою. Ах, как хотел бы я быть там! Ах, как шельмец просиял! Но все же задача бышилась хитра и долго сей избранник, уже подняв каменец над напряженным до вен плечом, щурился и чуть покачивался и примерялся, выставив левую руку к озеру и как бы задавая ею будущую нить полета, и вот! Разочарованно охнула стогласая толпа: каженно, не долетал Королевский камень даже до первой тяжкой вмятины во склоне! Но ааа! Ах! Ах! Как же хитро! Ибо все рассчитал Король! Ибо не в мяглую землицу колыхнулся его камень, а не долетев хотя, и левшее бысть, но чирикнулся в старинное каменистое ребро склона и щедро отразился в небо, чуть подправив линию, и – ха-ха-ха! – точно шлепнулся Глаховому камню по загривку и ще дальше по ручью прокатился ловкой припрыжкой!!!
А-а-а! Толпа ликовала и обнималась тут же на все стороны, и эльфы все выскочили на сцену, и самого расцветшего лицом Короля подхватили и чуть на радостях туда же в серебряный ручей не сбросили… ще ведь не просто представление было, а гадание о судьбе всего ихнего народа!
Ну а я, вовсе неможась, растолкался-поскакал скорей за сцену за мужскую загородку и оооооох! тоже восторжествовал над ручьем. Хорошо ще, что мужское отхожище так было рядом, девичье-то у другого ручья, так бы иначе – ох, не добежал бы! Оооох радость-радость!
И так уже из-за загородки понимал что-то с пятого на десятое (гм… поносному? ах, тьфу! победоносному!) сквозь радостные клики и возгласы:
– Позволишь ли будущность народу моему? – нарочито приниженно лопотал победитель (так и чудилось: до дыры протеребив знамую кулаху). Поневоле ревновалось: и что вот Метара в нем нашла?! И громыхалось в ответ: – Ах, рыжебородая проказа! Так вот и мое пророчество: по камню твоёному победоносному пусть и муравействуют! Но когда докажешь мне без хитрости, что равен богу, егда изымешь Метаров гребень из хрустальных вод, тогда и царствуй! А дотоль…
Толпа неистовствовала и пела от радости, слышимо объединяясь в огромный эльфийский хоровод. Вся их жизнь и распорядок были в сей легенде! А дотоль (это от Клевина и знал) – говорил Глах: дотоль не будет у вас королей, но только звездные королевы, и вечным кумиром благодарят пусть жену мою светлую, Метару мою, за ваше спасение!
Ох…
(Ох, всё дорасскажу, други мои, дайте лишь промочить горло нашенским дубелем!)
Ох… Цветастый был праздник! Ей же ей!
Но потом – пришел удивительный сон. Как будто боги или кто вывернули меня абы перчатку и мне же (губошлепу!) показали нежное естество мое, скрытое обычно за огрубевшей кожей. И я морщился частенько, когда воспоминал через годы: как истолковать сию историю? Элизер внушал мне однажды, что дни наши суть букет попавших под руку цветов, которыми мы наслаждаемся в пути. Но вопрос (и крепко помню его грузный шаг и скрипящие половицы): jeune ami, цветы ли манят тебя в заповедные края или столбовая дорога случайно проводит мимо? Ах, старик вечностно изъяснялся загадками, будто говоря со сфинксом! А был я все еще юнец (что и видно по смятению сна моего, перегруженного красками и запахами), – юн-юнец, не осознающий стези своей, но полный бесплодных мечтаний и надежд, как бывает полон немыми зарницами августовский вечер. Но как далеко еще до настоящей грозы!
И потому вопрос вам, mes chers amis! Учите ли еще ликейонский сонник, l'interprеtation des r?ves? Так вот вам то ли явь былинная, то ли сон беспутный от юношеского впечатления. Этакий цветочный pubertas! Пардон за мой латейский! Нарочито излагаю подробнее, дабы почувствовали его колдовскую волокиту, аки черемушный связ. Знамение или бред? Фантасмагория или пророчество? Аль и впрямь мог всю судьбу изменить и убежать с эльфийкой?!
Ибо:
Облегчился, подмылся в прохладном ручейце – и на раз полегче стало. И даже, по веселой толпе пронизываясь, обнял восторженно какую-то дивчину (будто бы знакомое личико!) и закружил бережно, на манер Глаха в спектакле, и расцеловал в макушку, и рассмеялась она и ой-же зажглась очами! И даже, на минутном душевном подъеме, еще с перешагнутой скамьи чью-то кружку эля радостно хватанул – с гречишной горчинкой! – и радостно губы обтер, и хотел, можется, поболтать с Левитом (да куда-то делся с глаз) или Пертиком (но так до поста их и не дошагал). Еще загляделся было, как актер рыжебородый возится с восторженными детишками-зеленцами и подкидывает мелкие камушки, чтобы вскакивали от каменистой стежки прямо в Глаховы палаты! Даже сам на корточки присел и тожно пару камушенков подкинул неудачно – отлетели-то, да не в радугу, а вообще, как говорено, куда-то по грибы! Ха!
Но потом не заладилось: как привстал, так и севши обратно. Голову бо будто полуденным солнцем опять-на-ять вдарило, и закружилось все живое вокруг разноцвейным хороводом, а поверх хоровода черные точки, аки мухи знойные, да и зажжужжали по ушам. Ну, на карачки сперва, но как-то (мерси молодой сосенке побоку) привстал, не при мальцах же блевноваться… по косогору уполз обратно за мужскую загородку, выдохся там изрядно. И после добрел кое-как через эльфийское черезмерное веселье до выделенной хатки и совсем затупился спать.
Но поначалу не спалось: зельно мучился брюхом и по нестроганой скрипливой койке (будто сучок сомнения посередине? глаховы плотники!) так и крутовался, будто в беленушном дурмане, не находя покоя обоим бокам. И помню, как закатный свет от пузырчатой глазницы (ну, бычьим желудцом затянутой) все бился в очи, как ни ерепенься, но потом стемнело и забылся как-то, только через воздушную щелку (как бы наш коголанский vasistas) тянуло горьким волшевейным дымом от ближней эльфийской гулянки. И лежал и воспоминал праздничную королеву: была в зеленой прозрачной хламиде, и все ее нежности солнечно просвечивали, и была она как весна и туман, как расцветающие почки, ждущие медоносной пчелы… ах, все глаза послушно следили за ней!
И потом – глазница будто, уф, превращилась в сказочный гадальный круг и мерцала звездами, и звездные каменцы будто даже движились в ней, но потом… Луна ли выглянулась? Ах! Або омут серебристый наливается золотом, впитывая солнечный цвет, так и засветился в округе девичий лик, и теплым летом повеяло прям-насквозь, и Луна уже гостила будто в клетушке, полная любви и лукавства. Ах, Эйла!
– Позволит ли вторжение мой гость? – прошептала мягко, бо ночная птица шелестнула где-то в воздухе. И не крыло ее шелестнуло, но сам безвинный воздух исполнился восторгом и сиянием вокруже ея. Ах, божье существо! Да как бы мог я отказаться, ибо не мог я и вовсе ответствовать, как будто и не бился голос в пересохшей гортани! А была она невысока (но в клетушке и не вытянуться, и стояла сия королева, как постельная дева, сама на белых коленах у грубого ложа моего), и светлое круглое лицо… хотя и без короны ныне, но косы раскинула за собой, будто искреннее полотнище ночи… сияла не голубой Луной нетрожной, а теплым белым отражением, а звезды – ах! просто яркокрылые светляки! – только искрились насмешно (али ласкостно? поди ее пойми!) в узких ее подведенных очах. Ах, подведенных синей сурёмой так, что казались – бо иллюзорное море сапфировых разноцветий! Куда глянешь только и забудешь, куда ты плыл, кого искал, но знаешь, что все нашел.
– Позволишь ли оказать гостеприимство? – ах! Каждая фраза ее сбывалась в полумраке хатки моей как созвездие, распахнувшееся на полнеба. Каждая буква-звук будто мерцалась и сиялась сама-в-себе, даже самолюбовалась во хрустальном своде, как в обыденном зеркальце! И говорила Эйла будто быстро – но время! Время будто разворошилось в неведомые меры, и на каждой-каждой мог я задержаться, как король из пьесы, – и воздохнуть на Цветочной Горе Мира! И наслаждаться этими неземными выдохами ее, покуда не зазвенят, не разорвуться плевры в груди, переполнившись ейной музыкой. И каждый ейный глас, будто цветастого птенца, мог я выделить из стайки и вслушиваться долго… (И вспомнилось ни к селу ни к лесу – sans rime ni raison! – ещё назидание Елизера: слова наши, Гаэль, суть смешные несмышленыши! И неведомо им, что каждый из них – лишь часть лукавой фразы. И как боги играют с людьми в любовь и ненависть, перебирая до дрожи наши кости, также можешь и ты выбрать лучшие голоса и перемежить в ночном воздухе и новую гармонию возвеличить!)
Но, Глаше мой! Ах, скоморошище зеленушное! Поэт многословия! Что же не скользнул непутево к ней, не потянулся влажной ладонью до ее лилейных колен, не утопился кудлатой бедовной башкой в ее летнее лоно?! Ибо да, надушилась для меня там, внизу (ах!), и явственно веялась ивовой водой и сладостной лавандной отдушкой!.. (А запахи эти я памятствовал славно, ведь была когда-то и другая девушка, так же желавшая благодатствоваться перед любовью, и я тогда – ах, весело помнится! – шарлатанством добывал ей сии ингредиены! Ах, как же резвились мы на воскресном лугу!)
А королева – ах, королева сияла летним вечерним огнем, и кажный завиток ее кос стался как маленькая живая радуга, вспоминающая все свойственные цвета… и зрелые губы, грушевым спелым ароматом манящие, которые хотелось бы кусать, и так бысть она сладка и трепетна и нежна на языце! Но лицо её было круглое и вечное, и ложные звезды в глазах зазеленевших кружились, уводя за темный горизонт, и говорила что-то, сказочные какие-то слова, но кто будет разуметь словеса, когда каждый вздох ее фантазийного существа – вечная музыка?
– Сиречь, милый мой гость, – пела она, – ты зеленый мальчик еще, но будущее не так нам щедро, чтобы ждаться!
– Сиречь, Гаэллль, – говорила она мое имя столь музыкально, что сам бы я влюбился в себя! – ты весь еще будущность, весь еще почка грядущего ствола, потянувшегося к голубому сиянию пророчеств!
– Сиречь, душа моя, – миловалась низким, будто пристыженным голосом, толе сладким, что хотелось рыдать и разделить с ней слезы! – бо я та же юница, ах, ничто без тебя, запертое в зеленой чешуйке молочное зернышко, ждущее твоего языка!!!