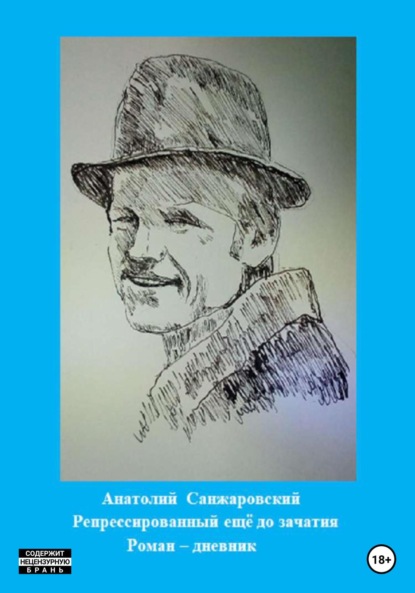По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Репрессированный ещё до зачатия
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За неполный месяц Галинка насобирала полную тележку отгулов и прилетела ко мне в Москву на целую неделю.
Я ездил в аэропорт, встречал её по-сухому. Без цветов.
Хотя букет красных роз и томился у меня в портфеле.
По пути у метро брал – нравился мне букет. Был какой-то торжественный, праздничный.
И чем ближе я подъезжал к Шереметьеву-2, букет мне нравился всё меньше и меньше. Вышел я из автобуса уже в аэропорту, придирчиво обозрел свой букетец, и заныло моё ретивое. Показался мне мой букетишка несвежим, приувялым, каким-то убогим, и сам я себе показался страшнючей прадеда крокодила.
Мне стало совестно преподносить любимой такой будет. Чувствовал я себя как на иголках. Рядом урны не было и я на злах запихнул его в портфель.
Павильон прилёта. Жду. Вон и моя Галинка!
Я бегом к ней, протянул руку:
– Есть официальное решение месткома поцеловаться.
– Но оно ещё не утверждено на президиуме!
Я обнял её:
– Утверждаю единогласно! – и поцеловал её в радостно открытые губы.
Дома я хотел тайком пронести свои розы в ведёрко под мойкой. Достаю из портфеля и вижу, а розочки мои-то вовсе и ничего-с. И, теряясь, вскользь разбито проблеял я что-то про их портфельное заточение.
– Какие чудные розы! – воскликнула она. – Букет-красавец! А-а… Розы в портфеле! Почему ты держал их в портфеле?
– Я вёз эти розы тебе, товарисч девушка, в аэропорт. Да мне они показались ой и неважнец… В отчаянии я и сунь их в портфелио…
– А я обиделась в Шереметьеве, что ты встретил меня без цветов. Такую красу прятать в портфеле! Как они мне нравятся!
За то, что я не поднёс именно эти розы ей при встрече в аэропорту, она сильно на меня рассердилась.
Но ночь всё весело уладила.
Дождь на молодых – к счастью!
Мы с тобой мороженое ели,
Мы с тобой на белый свет глядели,
В глубине дворов сгущались тени –
Вечер таял в запахе сирени.
Пели соловьи не уставая,
Ночь спустилась, шалая такая…
Буйством трав весна входила в лето,
Мы брели устало вдоль рассвета,
А заря всё жарче разгоралась,
А в тумане солнышко качалось…
Валентин Киреев
Галинка снова прилетела ко мне из Питера восемнадцатого апреля.
Я встретил её в Шереметьеве.
Идём под дождём от вокзала к автобусу.
– Радушка! – говорю я. – Сегодня первый весенний дождь! Дождь на молодых – к счастью!
– Не возражаю.
– А чего с грустинкой в голосе?
– Да всё думаю, есть ли жизнь на Зелёном, 73 – 13. Если и есть, то какая будет?
– Какую устроишь…
Наутро у нас выскочил разгрузочный день.
Мы проснулись в пятнадцать часов тридцать пять минут одиннадцать секунд. Поели пирога с яблоками и снова храбро пали на многотерпеливый, орденоносный диван.
На вздохе она пожаловалась:
– Такую ударную затяжную утреннюю гимнастику надо завязывать.
– Мы её толком ещё не развязали, – нежно отклонил я её опрометчивое неудачное рацпредложение.
Я ласково потрепал её по щёчке.
– Женщину нельзя бить даже цветами, – мягко отвела она мою руку и восторженно уставилась на золотистый паркетный пол, щедро усыпанный под свежим лаком, как летящими алыми радостными птицами, надписями Галя.
– Долго мучился? – кивнула Галинка на рассыпанные вокруг Гали.
– С той самой минуты, как увидел тебя. Думал, думал… Осколком оконного стекла соскоблил старый лак. Отциклевал сам тем осколком пол… Видишь, вроде ничего… И всюду красным карандашом пораскидал твоё имя… А вон там надписи и поинтеллигентней. Вон у самого порожка видишь? «Добро пожаловать, Радушка, в рай!».
А вон… «Я люблю тебя, Галя!»… Весь пол расписал и покрыл новым лаком. Старался успеть к твоему приезду…
– Вижу… Вижу… – Она как-то трудновато улыбнулась.
Я внимательней всматриваюсь в свою Галинку и замечаю, что лицо у неё какое-то разгорячённое.
Померил температуру. Тридцать восемь и семь!
– Вызываю скорую! – всполошился я.
– А лечить как будут? Я ж у тебя не прописана… Глотать больно. Этой бякой я болела ещё в девятом классе. Аспирин, ванна, молоко с маслом и содой… Отобьёмся! Только никаких звонков ни в скорую, ни в медленную!
К новому утру у неё было уже тридцать шесть и четыре.