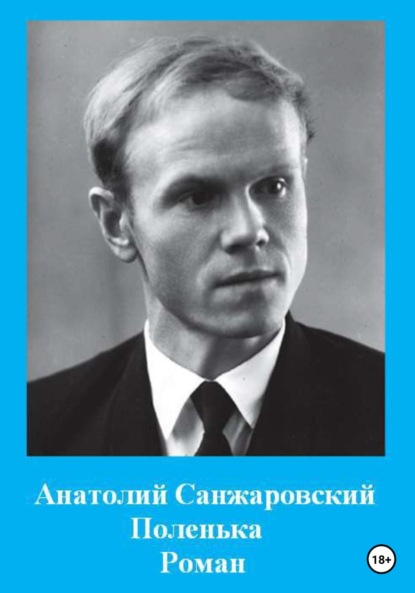По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поленька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Живём… День да ночь и сутки прочь, так и отваливаем!
– А всё же… Как?
– По-всякому… То плохо, то погано…
– Ка-ак!? У тебя ж тут Кавказ!
– А думаешь, твой Кавказ мёдом мазанный?.. На севере было холодно, темно… А тут вечная сырая баня. Малярия…
– Чем ты занимаешься?
– На чаю курортничаю… С севера слетели вниз… Уквартировали нас в бараке на первом районе. Лет с пять там отжили – ан нас перевозють сюда, на пятый район, а посёлочек на первом районе весь пошёл под тюрьму. Все бараки, где мы жили, теперь тюрьма. Мы и не подозревали, что роскошествовали в тюремных дворцах… Что тюремщики бьются на том чаю, что мы, нетюремщики… Какая между нами разница? Та и разница, шо их посёлушек обнесли колючей проволокой, а наш – штакетником… А так всё остальное то же… Шо у тюремщиков за проволкой и шо у нас, по сю сторону проволки… Одни дожди нас купають, одно солнце нас выжаривает на чаю… Чай, эта подлюка, какой же он раскапризный! Почти круглый год, зараза, не отпускае. Особенно круто летом, в сезон. День якый перестоял, уже в первый сорт негожий. Поэтому из нас тут все жилушки выдёргивають. С темна до темна сбирай той чай. Ряды тесные. В погожой день утром войдёшь – сразу по сердце мокрый. Роса! И до обеда раком на солнце паришься. Вот тебе и бесплатна баня. А дождь посыпал – всё та же баня. Не пустять с плантации, покуда чаинки те проклятые бачишь… Малярийные, гнилые места… А обжились… Обустроили русаки… Обживёшься, Серёж, и в аду хороше… Та шо про меня? Ты б вон чего сказал… Как в Криуше, в сенокос… Когда чуть не увёз меня…
– А, кабы без этого чуть… Я тут сбоку напёку… Мне б и ладно было на душе, будь у вас с Никитой всё хорошо. Говорил же я тогда тебе… Как вернулся свёкор из лагеря, надо было с Никитой бежать из Криуши куда глаза глядят.
– Ты мне такого не говорил.
– Верно. Хотел сказать, за тем и наезжал в Криушу… Да не удалось сказать. А вот во сне говорил… И не раз…
– А я и разу не слыхала…
– Уехали б сразу, как дед вернулся из лагеря… Не было б тогда ни заполярного севера, ни этой, – он потукал пяткой сапога в дорогу, – ни этой малярийной Грузинщины. И не было б этого чуть…
Он вслушался в сухо выпархивающие у него из-под сапог мелкие камешки и прыгающие попереди них. С устали Сергей еле волочил ноги по боку дороги, отчего зернисто-каменная мелочь весёлым веерком прыскала из-под носков, катилась и летела тенькая. Ему нравилось слушать звон камешков, оживающих у него под ногами.
– Так как ты тогда-то? – спросила она.
– А-а… т о г д а – т о… Что ж тут вспоминать? Как видишь, цел. Ну и на том спасибо доле. Раз живой, не ищи в мёртвых… Сильно мне тогда угладили криушанские холку. Вернулся в себя уже в ночи… Вот так же темень, прохолодь. Очнулся – звёзды низко. Не пойму сразу, что я, где я. Только потом доехало, что видеть мне те звёзды с белый кулак вон за какое счастье доспело… За Полюшку… Не знаю, когда б я и опомнился, не заслышь как сквозь сон ржанье лёгкое коня… Явственно чую, как ласково овевало, опахивало меня живым духом. Заламываю лицо вбок – мой запряженный буланик печально мотает головушкой. Чисто спрос тебе родительский сымает, докуда я буду вылеживаться…
– Ох… Позверели люди, забили до смертей да и спокинули человека одного домирать. А скотиняка разумность, жалость имеет… Ждёт, шагу не отступнёт от хозяина. Имей руки, рази она не унесла б его домой?
– Да-а… Долго ещё надо человеку, хренову царишке природы, учиться у животных добросердечию, человеколюбию… Почернел мне без тебя белый свет. Крест я поставил на комсомольско-пионерской всегдаготовности. Вылез из комсомольской кареты да и мах в председатели. В Скрыпниково. Прямой ведь резон служить мне при земле. У меня ж диплом агронома, непотопляемый поплавок… Колхозишко достался с листок, ладонь у меня пораздольней. Дела вроде путно вязал. Вроде на свою месту набежал. В почётность вошёл. Всяк кулик на своей кочке велик… Затёрся в глушинку, до самой войны день в день отстрелял. Была мне бронюшка. Мог в председательской норке отсидеться. В начале войны предложили в райком уже партии. Инструктором пошёл. И бронька моя со мною пошла. Но войнища такой горячей вони подпустила, что не усидел. Руки-ноги при мне, чего ж бронькой прикрываться, как фигой? Не самоволью ли сбёг на фронт… Хоть Ницше, немецкий зверюга философ, – на его идеях поднялся Гитлер, – и сказал, что «совесть – это жестокость, направленная против себя», но эта жестокость против себя всегда была по мне…
Сергей смолк.
Поле хотелось всё знать о нём, однако поспрашивать не смела. Боялась, а ну примет её расспросы ещё в обидную сторону, за разведывалку, и какое-то время они молча шли в чернеющих сумерках.
Думалось-вспоминалось своё.
Она вспоминала молодые годы свои громкие. Вспоминала скрадчивые встречи с ним. Вспоминала замужество, север, жизнь в Насакирали, жизнь вязкую, отчаянную, армячную.
Лента его воспоминаний лилась без стрекота, без шума, и он уже видел себя, как шёл на фронт… А дальше закрутилось в его фантазии такое кино про себя, чего он и в жизни не видывал, и теперь с интересом для себя и смотрел, и рассказывал Поле…
… Была учёба.
Через шесть месяцев Горбылёв – стрелок-радист прорывного танкового полка.
Однажды танк, в котором был Горбылёв, проломился сквозь линию огня, зашёл врагу в хвост. Вдруг танк заглох. Водитель кинулся завести – не получается. И тут экипаж заметил, что машина горит.
Команда – покинуть.
Первый толкнулся в десантный люк водитель. Но этот люк был заклинен, выкатился в лобовой. За водителем – остальные.
Выбравшись, ребята шебутились возле, не знали, что делать, зато знали одно: находиться близко опасно. В горящем танке с секунды на секунду начнут рваться снаряды.
Горбылёв дважды жилился вытащить лобовой пулемёт и не смог.
Парни крадко поползли рожью к ближнему лесу. Покачиваясь, тяжёлые колосья бежали за ними вдогонку. По беглецам минометный спустили огонь. У горбылёвского левого сапога оторвало каблук, ногу не тронуло.
У самого леса ребята поднялись в задышливом беге, тут их и схватили.
В лагере вместе со всеми копал окопы, рвы, ставил надолбы. И за всё то куцые пайки, воды лишь на полизушки.
Раз после долгой сухой погоды ударил, воскресно обвалился дождь. Весь лагерь – только что вернулся с окопов – сыпанул во двор.
До боли широко распахнутыми ртами люди ловили белые зыбкие стрелы капель. Да разве так напьешься? Промокнув насквозь, снимали рубахи, выжимали над собой. Ни одна водинка не пала мимо рта.
К самой проволочной ограде, в глубокую вымоину, ревуче сваливалась с воли жёлто-грязная гривастая вода. К яме пристегнули часового. Ну-ка, кто охоч выдуть сколько душеньке угодно?
И пить вроде можно, потому как часовой, похоже, не сволочара. Повернулся к яме спиной, дескать, меня пристегнули сюда, я и стой. И он стоял, вежливо посмеивался, наблюдая, как взрослые, точно маленькие дети в игре, гонялись за дождинками с открытыми ртами.
Горбылёв видел: русый паренёк с перевязанной рукой, выпив одну рубаху, сосредоточенно приглядывался к часовому. Уверовав, что тот свой, в два кошачьих прыжка очутился у омутка, занялся пить.
Часовой лениво повернулся и, продолжая светски посмеиваться, поморщился. Бог свидетель, не хотелось бы этого делать, а уж как прикажете поступить? Служба. Он безучастно выстрелил.
Мальчик уронил голову в воду.
Скоро ливень угомонился.
Наутро на месте вымоины вырыли квадратное метровое озерцо, навезли из реки воды. Только пейте!
Белый старик понёс руку с котелком к воде. Так и пристыл.
Укрываясь за убитым, ловчил зачерпнуть кряжеватый запорожский казаче. Зачерпнул лишь смерти.
За день навсегда уходило по воду около пятнадцати человек. Число убитых росло. Гитлерята входили во вкус, играли в игру кто напьётся и будет жив всё с бо?льшим азартом. Не видеть бы всё это!..
Под леском косили сено.
Горбылёв насадил на вилы полкопёшки, накрылся сеном, и побежала копна к берёзам.
За эту попытку к бегству его умолотили в гроб,[98 - Умолотить в гроб – жестоко избить.] услали на третий этаж казармы, этаж смертников.
В камере он был пятый. Весь вечер, всю ночь молчал. Под утро заговорил:
– Мы можем спуститься на первый этаж… Ко всем… Смешаемся со всеми, там нас не найдут. Как спуститься?.. Сейчас часовые задают храпунца. Сымай штаны, рубашки, невыразимые…[99 - Невыразимые – кальсоны.] Вяжи верёвку.
Связали. Попробовали на крепость и мягко выбросили в оконный простор.
– А всё же… Как?
– По-всякому… То плохо, то погано…
– Ка-ак!? У тебя ж тут Кавказ!
– А думаешь, твой Кавказ мёдом мазанный?.. На севере было холодно, темно… А тут вечная сырая баня. Малярия…
– Чем ты занимаешься?
– На чаю курортничаю… С севера слетели вниз… Уквартировали нас в бараке на первом районе. Лет с пять там отжили – ан нас перевозють сюда, на пятый район, а посёлочек на первом районе весь пошёл под тюрьму. Все бараки, где мы жили, теперь тюрьма. Мы и не подозревали, что роскошествовали в тюремных дворцах… Что тюремщики бьются на том чаю, что мы, нетюремщики… Какая между нами разница? Та и разница, шо их посёлушек обнесли колючей проволокой, а наш – штакетником… А так всё остальное то же… Шо у тюремщиков за проволкой и шо у нас, по сю сторону проволки… Одни дожди нас купають, одно солнце нас выжаривает на чаю… Чай, эта подлюка, какой же он раскапризный! Почти круглый год, зараза, не отпускае. Особенно круто летом, в сезон. День якый перестоял, уже в первый сорт негожий. Поэтому из нас тут все жилушки выдёргивають. С темна до темна сбирай той чай. Ряды тесные. В погожой день утром войдёшь – сразу по сердце мокрый. Роса! И до обеда раком на солнце паришься. Вот тебе и бесплатна баня. А дождь посыпал – всё та же баня. Не пустять с плантации, покуда чаинки те проклятые бачишь… Малярийные, гнилые места… А обжились… Обустроили русаки… Обживёшься, Серёж, и в аду хороше… Та шо про меня? Ты б вон чего сказал… Как в Криуше, в сенокос… Когда чуть не увёз меня…
– А, кабы без этого чуть… Я тут сбоку напёку… Мне б и ладно было на душе, будь у вас с Никитой всё хорошо. Говорил же я тогда тебе… Как вернулся свёкор из лагеря, надо было с Никитой бежать из Криуши куда глаза глядят.
– Ты мне такого не говорил.
– Верно. Хотел сказать, за тем и наезжал в Криушу… Да не удалось сказать. А вот во сне говорил… И не раз…
– А я и разу не слыхала…
– Уехали б сразу, как дед вернулся из лагеря… Не было б тогда ни заполярного севера, ни этой, – он потукал пяткой сапога в дорогу, – ни этой малярийной Грузинщины. И не было б этого чуть…
Он вслушался в сухо выпархивающие у него из-под сапог мелкие камешки и прыгающие попереди них. С устали Сергей еле волочил ноги по боку дороги, отчего зернисто-каменная мелочь весёлым веерком прыскала из-под носков, катилась и летела тенькая. Ему нравилось слушать звон камешков, оживающих у него под ногами.
– Так как ты тогда-то? – спросила она.
– А-а… т о г д а – т о… Что ж тут вспоминать? Как видишь, цел. Ну и на том спасибо доле. Раз живой, не ищи в мёртвых… Сильно мне тогда угладили криушанские холку. Вернулся в себя уже в ночи… Вот так же темень, прохолодь. Очнулся – звёзды низко. Не пойму сразу, что я, где я. Только потом доехало, что видеть мне те звёзды с белый кулак вон за какое счастье доспело… За Полюшку… Не знаю, когда б я и опомнился, не заслышь как сквозь сон ржанье лёгкое коня… Явственно чую, как ласково овевало, опахивало меня живым духом. Заламываю лицо вбок – мой запряженный буланик печально мотает головушкой. Чисто спрос тебе родительский сымает, докуда я буду вылеживаться…
– Ох… Позверели люди, забили до смертей да и спокинули человека одного домирать. А скотиняка разумность, жалость имеет… Ждёт, шагу не отступнёт от хозяина. Имей руки, рази она не унесла б его домой?
– Да-а… Долго ещё надо человеку, хренову царишке природы, учиться у животных добросердечию, человеколюбию… Почернел мне без тебя белый свет. Крест я поставил на комсомольско-пионерской всегдаготовности. Вылез из комсомольской кареты да и мах в председатели. В Скрыпниково. Прямой ведь резон служить мне при земле. У меня ж диплом агронома, непотопляемый поплавок… Колхозишко достался с листок, ладонь у меня пораздольней. Дела вроде путно вязал. Вроде на свою месту набежал. В почётность вошёл. Всяк кулик на своей кочке велик… Затёрся в глушинку, до самой войны день в день отстрелял. Была мне бронюшка. Мог в председательской норке отсидеться. В начале войны предложили в райком уже партии. Инструктором пошёл. И бронька моя со мною пошла. Но войнища такой горячей вони подпустила, что не усидел. Руки-ноги при мне, чего ж бронькой прикрываться, как фигой? Не самоволью ли сбёг на фронт… Хоть Ницше, немецкий зверюга философ, – на его идеях поднялся Гитлер, – и сказал, что «совесть – это жестокость, направленная против себя», но эта жестокость против себя всегда была по мне…
Сергей смолк.
Поле хотелось всё знать о нём, однако поспрашивать не смела. Боялась, а ну примет её расспросы ещё в обидную сторону, за разведывалку, и какое-то время они молча шли в чернеющих сумерках.
Думалось-вспоминалось своё.
Она вспоминала молодые годы свои громкие. Вспоминала скрадчивые встречи с ним. Вспоминала замужество, север, жизнь в Насакирали, жизнь вязкую, отчаянную, армячную.
Лента его воспоминаний лилась без стрекота, без шума, и он уже видел себя, как шёл на фронт… А дальше закрутилось в его фантазии такое кино про себя, чего он и в жизни не видывал, и теперь с интересом для себя и смотрел, и рассказывал Поле…
… Была учёба.
Через шесть месяцев Горбылёв – стрелок-радист прорывного танкового полка.
Однажды танк, в котором был Горбылёв, проломился сквозь линию огня, зашёл врагу в хвост. Вдруг танк заглох. Водитель кинулся завести – не получается. И тут экипаж заметил, что машина горит.
Команда – покинуть.
Первый толкнулся в десантный люк водитель. Но этот люк был заклинен, выкатился в лобовой. За водителем – остальные.
Выбравшись, ребята шебутились возле, не знали, что делать, зато знали одно: находиться близко опасно. В горящем танке с секунды на секунду начнут рваться снаряды.
Горбылёв дважды жилился вытащить лобовой пулемёт и не смог.
Парни крадко поползли рожью к ближнему лесу. Покачиваясь, тяжёлые колосья бежали за ними вдогонку. По беглецам минометный спустили огонь. У горбылёвского левого сапога оторвало каблук, ногу не тронуло.
У самого леса ребята поднялись в задышливом беге, тут их и схватили.
В лагере вместе со всеми копал окопы, рвы, ставил надолбы. И за всё то куцые пайки, воды лишь на полизушки.
Раз после долгой сухой погоды ударил, воскресно обвалился дождь. Весь лагерь – только что вернулся с окопов – сыпанул во двор.
До боли широко распахнутыми ртами люди ловили белые зыбкие стрелы капель. Да разве так напьешься? Промокнув насквозь, снимали рубахи, выжимали над собой. Ни одна водинка не пала мимо рта.
К самой проволочной ограде, в глубокую вымоину, ревуче сваливалась с воли жёлто-грязная гривастая вода. К яме пристегнули часового. Ну-ка, кто охоч выдуть сколько душеньке угодно?
И пить вроде можно, потому как часовой, похоже, не сволочара. Повернулся к яме спиной, дескать, меня пристегнули сюда, я и стой. И он стоял, вежливо посмеивался, наблюдая, как взрослые, точно маленькие дети в игре, гонялись за дождинками с открытыми ртами.
Горбылёв видел: русый паренёк с перевязанной рукой, выпив одну рубаху, сосредоточенно приглядывался к часовому. Уверовав, что тот свой, в два кошачьих прыжка очутился у омутка, занялся пить.
Часовой лениво повернулся и, продолжая светски посмеиваться, поморщился. Бог свидетель, не хотелось бы этого делать, а уж как прикажете поступить? Служба. Он безучастно выстрелил.
Мальчик уронил голову в воду.
Скоро ливень угомонился.
Наутро на месте вымоины вырыли квадратное метровое озерцо, навезли из реки воды. Только пейте!
Белый старик понёс руку с котелком к воде. Так и пристыл.
Укрываясь за убитым, ловчил зачерпнуть кряжеватый запорожский казаче. Зачерпнул лишь смерти.
За день навсегда уходило по воду около пятнадцати человек. Число убитых росло. Гитлерята входили во вкус, играли в игру кто напьётся и будет жив всё с бо?льшим азартом. Не видеть бы всё это!..
Под леском косили сено.
Горбылёв насадил на вилы полкопёшки, накрылся сеном, и побежала копна к берёзам.
За эту попытку к бегству его умолотили в гроб,[98 - Умолотить в гроб – жестоко избить.] услали на третий этаж казармы, этаж смертников.
В камере он был пятый. Весь вечер, всю ночь молчал. Под утро заговорил:
– Мы можем спуститься на первый этаж… Ко всем… Смешаемся со всеми, там нас не найдут. Как спуститься?.. Сейчас часовые задают храпунца. Сымай штаны, рубашки, невыразимые…[99 - Невыразимые – кальсоны.] Вяжи верёвку.
Связали. Попробовали на крепость и мягко выбросили в оконный простор.