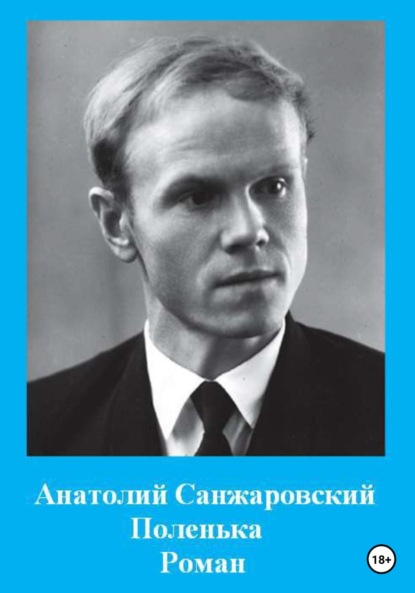По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поленька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не пялься в окно – никогда не отдашь чалки! Включи мозги… Намотай кой на что… А то ты слишком горячий любитель камушки считать…[90 - Камушки считать – незаметно подсматривать.]
– Больше не буду, – торопливо покаялся Антон.
А Глебке почему-то примлилось, что Маня умерла лицом к окну. Покойников он боялся и ему ли выследить, поймать такую тонкость? Но сейчас казалось, всё было именно так, лицом к окну. И разве на звезду на свою она смотрела? Не могла она видеть свою звезду: раскрытое окно прохладно, таинственно, прочнозелено завешивала яблоня. Тогда только завязалось лето. Нет, то было немного рпньше, в конце весны. На яблоне едва свертелись белёсые мохнатые зелепушки.
Было воскресенье. Мама и Митрофан собирали чай. Как велось, на выходной припасались в бригаде лучшие делянки, люди раньше обычного, ещё потемну выскакивали на плантацию. Работали в воскресенье до обеда. А тут обед уже пробежал, а мамы и Мити нет да нет.
Голод ломил, гнул в крюк.
Маня с Антоном ныли напару. Антон бродил по комнате, не забывал ронять редкие слёзы. Глеб отстранённо слушал их и думал, что ж такое дать им хоть на полизушки.
Распаренная зноем яблоня устало жалась к бараку, к его тени. Оперлась ветвями на стену. Отдыхала. Нижние ветви разморенно возлежали, отдыхали даже и на подоконнике.
На правах старшего Глеб взобрался на лавку, отщипнул зелёный катышек. Попробовал и сморщился. Слёзы без спросу покатились по щекам.
Не было еды и это не еда.
А что если… Невесть почему он побрызгал из своего петушка на яблоко. Горечи в нём убавилось вроде. Захлёбисто сжевал одно, другое… Невыносимо видеть голодному, как едят, да тебе не подносят.
– Жрун! Жрун! Жрун! – взбунтовался Антон. – Всё сам да сам! А нам?
– Вам может не подойти… Малешки ещё. Вот проверю на себе… Если хужей не станет…
– Жадобистый ты! Жаднюга!
– Я? Да слопайте хотько всю дереву! – махнул Глеб на ветки, что свисали к подоконнику. – Всю! С корнями! С листьями! С червяками! С паутинищей!
Однако и в ярости он не упустил оросить яблоко из петушка, отдал Антону. Антон съел, жмурясь, лишь половинку, другую чинным кавалериком поднёс сидевшей на койке Мане.
У Мани не было зубов. Она пососала, пососала огрызок и выплюнула.
«Не могла она от яблока от моего помереть? Не ела… А от росы на яблоке? Да мы с Антохой ели с моей росой и совсемушки досе живые!» – спасительно, рассвобождённо подумалось Глебке. Полегоньку страх стал вынимать из него свои коготочки.
Так куда же смотрит человек в последний миг свой? На свою звезду?
Поля обмерла, будто впервые слышала это, хотя и слышала от самой себя. Раньше она как-то не придавала этой примете значения. А тут наплыли со всех сторон, в печальных подробностях сгрудились лица усопших на её глазах. К ужасу, самой себе подтвердила, что умирали они лицом к свету. Маня так вот отошла, и до Мани так угасали дети её. И дед Арсений, и дед Павел, и дед Андрей тоже так прибрались ещё перед второй германской войной…
– Ма, а там, – Антон показал в окно на небо, – нету теперь папкиной звёздушки?..
– Може, нема, а може, и е… Може, там и сшибка какая похоронку накрыла… Скилько було ошибок… Живые ж люди пишут, долго ле сшибиться? Война замирилась щэ колы… В мае! А вжэ сентябрюха… А чужи батьки с хронта идуть, идуть, идуть. Чужи хлопцы бегают на дорогу встревать с хронта своих батькив. Клыки вон Юрка с Витькой привели своего домой. Катька Семисынова привела Аниса… А вы… какие-то без разницы к батьке к своему. Никто и разу не сходил на дорогу совстретить… Уроде как и рады, что повестка була. А что повестка? Оно пошли бы на дорогу из города… Как стала бы душа душу звать, глядишь, и отозвался б, скориш наявился бы батько. Невжель для вас он уже помер? Вы что же, посмирились с той похоронкой? Подкорились той брехучке?.. Что же вы первые не ступнёте первый шаг навстречь батьке? Что же?..
Поля беззвучно, стёрто заплакала, вдавив висок в охолодалое перекрестье рамы.
Она размыто почувствовала, что упрёки её несправедливы. Зачем было ватлать, трещать в горячке, что сыны не ходят встречать со станции отца? Ходила она, ходили и они…
Бывало, в воскресенье, после работы на чаю, под вечер, побежит в Махарадзе мацони какую баночку продать да на те копейки взаимовыручно взять картох ли, луку ли; мечется, мечется по базарику, словно под неё угольев махнули, во всякую минуту наводит час. Всё боится не поспеть к батумскому поезду.
А уже наваливается ночь, велики ли торги? И отдаст ту мацоню не за спасибо ли. Выгодней было б не тащить её от ребят сюда, так нет чего на хлеб. А с одного молока, как и с одного мёду, сытости не наскребёшь. Век на одном молоке не пропоёшь. Детская душа и корочку просит…
Пока утоварится, бежать край надо домой, темно уже. Сторона чужая. А ну не дай Бог какой еще хамлюга польстится на молодое, радостное тело, косы до пояса не пожалеет, примет за заблудшую какую пустёху с русской земли да и заломит где в канаве подол?
Держит она все те страхи в себе невпросте. Как-то раз присатанился один нечёсаный, страхолюдный чебурек со шкаф, бородища чёрным, патлатым снопом во всю грудь. Заорала, поди, черти повскакивали со сна у котлов в аду. Как раз машина совхозная из-за поворота вывернулась, чай на фабрику вёз Ванька Познахирин. Спасибо, Ванька и отбил от того скотиняки.
Помнит, помнит всё то она, а все равно подзабыла под момент коза тот чуть было не приключившийся грех. Ей бы лететь в сумерках назад. Она вроде и бежит домой, только видит, ноги-ослушницы прибежали на станцию. Версту с гаком кинули крюк! Не пожалели её плеч больных, обиженных, при грузе. В чувале и кукуруза вприкуп, и картошки узлина, и пшеница, и соя, и венок луку – набежал тяжёленький мешок.
И больно косточкам, и горько, и дивносладостно. То хорошая боль, то весёлая боль, то наша боль – харчи сыночкам!
К батумскому она опоздала. Люди с поезда уже растеклись, пусто всё кругом. Она потерянно побрела под мешком из угла в угол. То в один зал вошла, то в другой, то к кассе зачем-то шатнулась, то все лавочки прошла обсмотрела. А ну где ранетый лежит ничком, не может своим путём до дому дотолкаться?
Она наткнулась на жирного милиционера. Фараон неладно так, с издёвочкой хохотнул:
– Чито,
,[91 -
(калбатоно) – форма вежливого обращения к женщине. Буквально – госпожа, барыня.] искай?
Это она-то, в поту, с лошадиным чувалом на плечах, госпожа? Барыня? Она и сказать не скажет, чего тут ищет, и краснеет. Не брякнешь же, что прибежала встречать мужика с фронта. А мужик погиб два года назад.
И не было такого раза, чтоб бегала она в город, да обминула вокзал. Возвращалась всегда ночью, налетала в придорожной канаве на своих старшеньких, на Митрофана с Глебом. То вперебой, то хором докладывали, что сидят встречают её. А однажды и проговорись:
– А мы думали, ма, что Вы не одни…
Поля знала, кого парубки держали в виду. Про это не говорилось в голос.
После замирения, после Победы весь район стал выходить на дорогу целыми семьями. В прогулку не в прогулку, а собьются полной толпой перед сном и идут к станции, и у всякого надежда спеет в душе:
«А вдруг… А вдруг нечаем и совстрену своего?!»
Сначала ходили взрослые, потом это поветрие придавило и детвору. Всю площадку Аниса выводила гулять на городской большак. Именно там всем детсадовским базаром она встретила с Катькой, со своей дочкой, Аниса.
Дети поверили счастью городских походов, но Антон к ним ни ногой. Он дичился сходбищ и на встречу отца всегда тайком один пускался в мёртвый час.
Пожалуй, это было первое, что он ясно помнил в своей жизни, – как бегал встречать отца с войны.
Миновав пятый район, городская дорога змеисто вползала на гору, вилась дальше к центру совхоза. Наверное, не было дня, чтоб по ней весело не промаячил какой краснопогонник оттуда, с фронта. Мальчик не сомневался, что во множестве этих людей отыщет отца.
После обеда в саду укладывали спать.
Для солидной строгости Аниса надевала очки, которые обычно болтались на всякий горячий случай в связке ключей на боку. Очки ей во вред, она в них нипочём не видит. Она ссаживала их на вершинку носа, командно лупилась поверх ободков, наклонив голову, будто собиралась бодаться.
– Иха, ребятьё, кому говорено? Спитя на здоровью! Зараз же засыпать! Как я!
Ради наглядности она смеживала глаза, валилась снопиком на одеялишко в проходе на полу, где было прохладней. В агитации за срочный сон она, нянечка, была так убедительна, что уже через минуту и впрямь засыпала сама первая.
Тут же Антон, изображавший мертвецки спящего примерного детсадовца, ловил басовитый Анисин всхрап, на цыпочках с разбегу перепрыгивал через её широковато разлитое мягкоперинное бедро и, старательно зажмурившись, соскакивал с низкого подоконника в нежную упругость высокой густой мохнатой травы.
Мальчик почему-то считал, что закрытые плотно глаза верное средство от всяких ушибов. Ушибов он и взаправду не наживал и не столько потому, что сигал с закрытыми глазами, сколько потому, что их, ушибов, вовсе не могло быть: барак где жил детсад, сидел прямо на земле, окно подымалось над нею чуть выше стула. А потом ещё трава такая, похожая на горушку зелёной ваты. Откуда здесь тебе убиться?