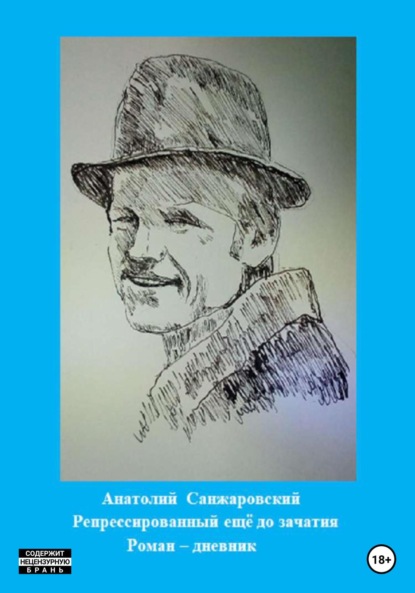По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Репрессированный ещё до зачатия
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За вечерей Гриша поторапливал маму:
– Работайте, ма! Работайте! Чего ложку положили?
– Та я вжэ картохи не хочу. Я яблоко… Поскребу трошки…
– Ну, скребите, скребите, – разрешает Гриша. – А ты, – поворачивается он ко мне, – что накопал, то и привёз?
– Да, – соврал я.
– Если когда придётся оставлять там, в бурьяне, то не оставляй в мешках. Врассыпку оставляй. Вдруг кто нечаянно набредёт… Не унесёт… Ну, в карманы напихает… Вот и всё всепланетное горе…
Совет выслушать не возбраняется.
Только поступай по-своему.
– Да кто там набредёт? Ночь. Разве что космонавты из ракеты увидят? Ну станут ли они размениваться на твой мешок?
– Люди в степи не постесняются, – уклончиво пробормотал он. – Я тебе не писал… Если б ты знал, что я после операции не смогу убрать картошку, ты б не сунулся в эту каторгу?
– Напротив. Обязательно б приехал! Сколько живу отдельно от вас, каждое лето приезжал навещать. А тут приехал бы на больший срок, чтоб всё поделать по дому.
Он хмыкнул и замолк.
Слышно лишь было, как на электроплитке уныло закипал чайник.
– Это тебе для мини-сандуновской бани! – показал Гриша на чайник.
Перед сном мама вышла посидеть на лавочке у окна под каштаном. А я тем временем выкупался в корыте. Поливал себя изо рта.
На следующий день я одолел ещё пятьдесят рядков.
– Всё! Завтра не пойдёшь на картошку, – объявил Гриша. – Получаешь льготу на отдых.
– Солнце. А я задери кособланки[269 - Кособланки – кривые ноги.] и дрыхни? А ну послезавтра дождяра вжарит? Дожму картошку. А там на отдых посмотрим.
Тут я включаю «Новости» и слышу: завтра в Чернозёмье дождь.
Во мне всё заныло.
Три мешка в бурьяне и выкопанную, но не собранную картошку на двадцати рядках будет купать дождюха? И так в этом году картошка плохая. Спасибо Гришиному другу Валере Котлярову. Божьей милостью дружбан прополол, когда Гриша лежал в Воронеже. И эти остатки кинуть? А ну дождища разбежится полоскать до двенадцатого сентября, когда я должен уже ехать? Билет-то на руках…
Ночью мне приснилось, как рекой лило с крыши.
Проснулся я в половине седьмого.
Дорога под окном сухо стекленела.
Я обрадовался.
На пальчиках выкрался из засыпухи. Никто не проснулся.
Я скок на велик и в поле.
Надо мной брюхато провисало облако.
Вдали стоял то ли тугой туман, то ли уже полоскал дождь.
Была сильная роса. День-плакальщик. Утренняя роса – добрая слеза: ею лес умывается, с ночкой прощается.
В Першине не вилось ни дымка. Иной колхозничек, этот горький чёрный коммунар, проснётся о-го-го когда и долго будет очумело метаться из калитки в калитку, ища, где бы на халяву врезаться в жестокий опохмелон. С семнадцатого года никак не опохмелится. Где уж тут до работы?
Что смогут, уберут с полей горожане и школьники-студенты с горячим участием военных. А на тоскливый хлеб ему дуриком отвалит кремлёвский дядя буляляка.[270 - Буляляка – этим словом пугают маленьких детей.]
Сбросил я с одного мешка траву. Из дырки в мешке выскочила мышь. Нашла где тёплую хатку!
В восемь я был уже дома с родной картошкой.
Говорю своим:
– Я дверь оставил незапертой. Вас тут не покрали? Все в полном составе?
– В полном! – в присмешке подтверждает Гриша.
Быстро позавтракав, я снова дунул в поле.
Осталось собрать с двадцати рядков. Да выкопать ещё со ста пятидесяти пяти. Раз плюнуть!
Выкопал рядков десять – сломалась лопата!
Даже железо не вынесло моего энтузиазизма!
Поскакал я напару с велосипедом по ближним делянкам. Ни у кого нет запасной лопаты. Пожимают лишь плечишками:
– Мы под лошадку убирам!
Подобрал я выкопанную картошку и домой.
Хоть тормоза и не держат, но если тормозить осторожненько, нерезко, то ехать можно. До первой аварии.
На спуске имени товарища Бучнева – это невропатолог районной поликлиники, вымахал юртищу в два этажа у речонки Девицы, – тормоза мне твёрдо отказали.
А навстречу грузовики, сзади кучка легковиков.
Народу везде невпроскок…
И с половины спуска я чудом сумел вырулить перед носом у камаза в отбегавший в сторону от дороги затравянелый проулок и потому, наверное, могу сейчас всё это писать.
Докопал я остаточки.
– Работайте, ма! Работайте! Чего ложку положили?
– Та я вжэ картохи не хочу. Я яблоко… Поскребу трошки…
– Ну, скребите, скребите, – разрешает Гриша. – А ты, – поворачивается он ко мне, – что накопал, то и привёз?
– Да, – соврал я.
– Если когда придётся оставлять там, в бурьяне, то не оставляй в мешках. Врассыпку оставляй. Вдруг кто нечаянно набредёт… Не унесёт… Ну, в карманы напихает… Вот и всё всепланетное горе…
Совет выслушать не возбраняется.
Только поступай по-своему.
– Да кто там набредёт? Ночь. Разве что космонавты из ракеты увидят? Ну станут ли они размениваться на твой мешок?
– Люди в степи не постесняются, – уклончиво пробормотал он. – Я тебе не писал… Если б ты знал, что я после операции не смогу убрать картошку, ты б не сунулся в эту каторгу?
– Напротив. Обязательно б приехал! Сколько живу отдельно от вас, каждое лето приезжал навещать. А тут приехал бы на больший срок, чтоб всё поделать по дому.
Он хмыкнул и замолк.
Слышно лишь было, как на электроплитке уныло закипал чайник.
– Это тебе для мини-сандуновской бани! – показал Гриша на чайник.
Перед сном мама вышла посидеть на лавочке у окна под каштаном. А я тем временем выкупался в корыте. Поливал себя изо рта.
На следующий день я одолел ещё пятьдесят рядков.
– Всё! Завтра не пойдёшь на картошку, – объявил Гриша. – Получаешь льготу на отдых.
– Солнце. А я задери кособланки[269 - Кособланки – кривые ноги.] и дрыхни? А ну послезавтра дождяра вжарит? Дожму картошку. А там на отдых посмотрим.
Тут я включаю «Новости» и слышу: завтра в Чернозёмье дождь.
Во мне всё заныло.
Три мешка в бурьяне и выкопанную, но не собранную картошку на двадцати рядках будет купать дождюха? И так в этом году картошка плохая. Спасибо Гришиному другу Валере Котлярову. Божьей милостью дружбан прополол, когда Гриша лежал в Воронеже. И эти остатки кинуть? А ну дождища разбежится полоскать до двенадцатого сентября, когда я должен уже ехать? Билет-то на руках…
Ночью мне приснилось, как рекой лило с крыши.
Проснулся я в половине седьмого.
Дорога под окном сухо стекленела.
Я обрадовался.
На пальчиках выкрался из засыпухи. Никто не проснулся.
Я скок на велик и в поле.
Надо мной брюхато провисало облако.
Вдали стоял то ли тугой туман, то ли уже полоскал дождь.
Была сильная роса. День-плакальщик. Утренняя роса – добрая слеза: ею лес умывается, с ночкой прощается.
В Першине не вилось ни дымка. Иной колхозничек, этот горький чёрный коммунар, проснётся о-го-го когда и долго будет очумело метаться из калитки в калитку, ища, где бы на халяву врезаться в жестокий опохмелон. С семнадцатого года никак не опохмелится. Где уж тут до работы?
Что смогут, уберут с полей горожане и школьники-студенты с горячим участием военных. А на тоскливый хлеб ему дуриком отвалит кремлёвский дядя буляляка.[270 - Буляляка – этим словом пугают маленьких детей.]
Сбросил я с одного мешка траву. Из дырки в мешке выскочила мышь. Нашла где тёплую хатку!
В восемь я был уже дома с родной картошкой.
Говорю своим:
– Я дверь оставил незапертой. Вас тут не покрали? Все в полном составе?
– В полном! – в присмешке подтверждает Гриша.
Быстро позавтракав, я снова дунул в поле.
Осталось собрать с двадцати рядков. Да выкопать ещё со ста пятидесяти пяти. Раз плюнуть!
Выкопал рядков десять – сломалась лопата!
Даже железо не вынесло моего энтузиазизма!
Поскакал я напару с велосипедом по ближним делянкам. Ни у кого нет запасной лопаты. Пожимают лишь плечишками:
– Мы под лошадку убирам!
Подобрал я выкопанную картошку и домой.
Хоть тормоза и не держат, но если тормозить осторожненько, нерезко, то ехать можно. До первой аварии.
На спуске имени товарища Бучнева – это невропатолог районной поликлиники, вымахал юртищу в два этажа у речонки Девицы, – тормоза мне твёрдо отказали.
А навстречу грузовики, сзади кучка легковиков.
Народу везде невпроскок…
И с половины спуска я чудом сумел вырулить перед носом у камаза в отбегавший в сторону от дороги затравянелый проулок и потому, наверное, могу сейчас всё это писать.
Докопал я остаточки.