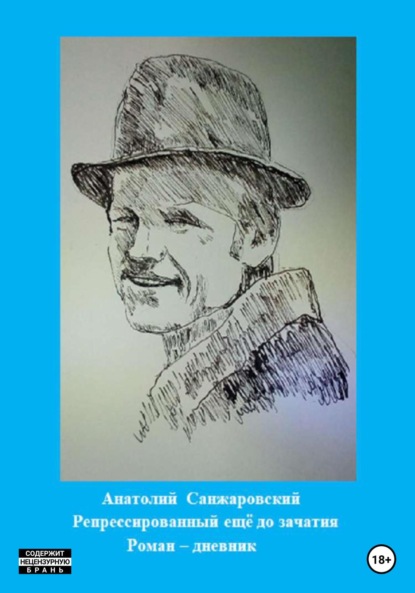По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Репрессированный ещё до зачатия
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И гроб с телом мамы, и гроб с телом Гриши пришлось выносить в окно.
Очки, футляр положили Грише в гроб. Были у брата пухлые ноги. Их обули в тапочки. А хорошие новые туфли тоже положили. Одну туфлю под левый локоть, другую под правый. Захочет, там возьмёт и переобуется. Мама встретит его ещё на дороге.
Их могилки рядом. За одной оградкой.
И верный Гришин друг посадил в изножье печальную берёзку…
Каждый год я наезжал к своим в отпуск.
То огород поможешь вскопать или убрать картошку.
То погреб подремонтируешь.
То дровец на всю зиму нарубишь…
Всё какая-никакая подмога.
У мамушки мне всегда было добро.
Я был влюблён в её образную простую речь. Не запиши сразу – не запомнишь всё в точности. Пропадёт такая радость.
И стал я записывать за мамой.
Однажды она это заметила и очень расстроилась.
– Толька, сынок… Ты к чему мои слова кидаешь на бомагу? Потом шо, сдашь меня у милицию?
– Боже упаси! Да как Вы такое могли подумать? Я просто так… Нравится, как Вы говорите…
– А и наравится, всё одно не хватай на карандаш, шо я там ляпаю… Да мало ль шо я бегмя ляпону!?
– Успокойтесь… Не буду…
И всё же я тайком записывал.
Набежало тридцать три тетрадки.
Когда я их читаю, вижу и ясно слышу свою маму.
У неграмотной мамы я неосознанно учился писать свои книги – шестнадцать томов собрания сочинений.
Бомба
В школу я пошёл в девять лет без десяти дней.
Безграмотной маме нравилось слушать, как я усердно терзал букварь.[188 - Терзать букварь – старательно учить уроки.]
Сама она училась в школе с месяц. По чернотропу бегала. А как похолодало, как пали снега в воронежском хуторке Собацком, учёба и стань.
Не в чем было ходить в школу.
На троих у неё с братьями Петром и Егором метались в служках одни сапоги. Сапоги понадобились братьям.
Как-то мама готовила на плите вечерю.
В тот день я выучил уроки до её возвращения с чайной плантации, и мама попросила:
– Почитай мне трошки.
Я раскрыл букварь и торжественно прокричал по слогам:
– Бом-ба!
– Неправильно! – стукнула мама ложкой по кастрюле на плите. – Бон – ба!!! Ны! Ны посерёдушки воеводиха! А не твоя мыкалка мы!
– Но в букварике – «бомба»!
– Ой да ну-у!.. Ой-ёй-ёюшки-и!.. Та шо ж они там у той Москви понимають!? Негодный твий букварюха! Вкрай неправильный! Выкинь ото!
– А уроки по чём делать?
– Тогда не выкидывай.
И больше мама не спорила с учебниками.
1947
«Махновец»
У нас в девятом классе двадцать пять гавриков состояли в комсомоле и пятеро не состояли.
Я был несостоятельный.
И вот после новогодних каникул всех несостоятельных согнали в директорскую яму.[189 - Яма – кабинет.] На эшафот.
Нас выстроили вдоль стены.
Звероватый дирюга молча прохаживался мимо нас по своей боевой цитадели и не сводил с нас жестоких глаз. Не мог налюбоваться, что ли?
Дуректор прохаживался, а наша очкаристая классная комсоргиня Женечка Логинова торжественно тараторила из-за его стола:
– Владимир Иванович! Наш класс борется за звание образцово-показательного. Если б эта пятёрка вступила в комсомол, мы б могли выскочить на первое место по школе! Но честь класса им недорога! Какие-то упёртые махновцы!
Тощий дирик примёр посреди кабинета со сложенными на груди руками и – взбежал он под потолочек ростом – с высоты хищневато уставился на нас поверх очков, будто собирался с нами брухаться:
– Ну! Чито будэм дэлат, уважяемие господа махновци? – распалённо вопросил он с родным грузинским акцентом. – На честь класса вам напиливать? А ми можэм на вас на всэх напиливать! Вот ти! – кровожадно ткнул в мою сторону мохнатым чёрным пальцем. – Как ти смээшь писат на комсомолск газэт, эсли сама не камсомолец? Тожа мнэ юни каресподэнт! Нэ будэшь ти юни, эсли нэ паидёшь на комсомол! Вступай аба бэгом! А то я позвоню на редакция «Молодой сталинец», и ни один строчк твой не побэжит болша на газэт!
Я промолчал.
Очки, футляр положили Грише в гроб. Были у брата пухлые ноги. Их обули в тапочки. А хорошие новые туфли тоже положили. Одну туфлю под левый локоть, другую под правый. Захочет, там возьмёт и переобуется. Мама встретит его ещё на дороге.
Их могилки рядом. За одной оградкой.
И верный Гришин друг посадил в изножье печальную берёзку…
Каждый год я наезжал к своим в отпуск.
То огород поможешь вскопать или убрать картошку.
То погреб подремонтируешь.
То дровец на всю зиму нарубишь…
Всё какая-никакая подмога.
У мамушки мне всегда было добро.
Я был влюблён в её образную простую речь. Не запиши сразу – не запомнишь всё в точности. Пропадёт такая радость.
И стал я записывать за мамой.
Однажды она это заметила и очень расстроилась.
– Толька, сынок… Ты к чему мои слова кидаешь на бомагу? Потом шо, сдашь меня у милицию?
– Боже упаси! Да как Вы такое могли подумать? Я просто так… Нравится, как Вы говорите…
– А и наравится, всё одно не хватай на карандаш, шо я там ляпаю… Да мало ль шо я бегмя ляпону!?
– Успокойтесь… Не буду…
И всё же я тайком записывал.
Набежало тридцать три тетрадки.
Когда я их читаю, вижу и ясно слышу свою маму.
У неграмотной мамы я неосознанно учился писать свои книги – шестнадцать томов собрания сочинений.
Бомба
В школу я пошёл в девять лет без десяти дней.
Безграмотной маме нравилось слушать, как я усердно терзал букварь.[188 - Терзать букварь – старательно учить уроки.]
Сама она училась в школе с месяц. По чернотропу бегала. А как похолодало, как пали снега в воронежском хуторке Собацком, учёба и стань.
Не в чем было ходить в школу.
На троих у неё с братьями Петром и Егором метались в служках одни сапоги. Сапоги понадобились братьям.
Как-то мама готовила на плите вечерю.
В тот день я выучил уроки до её возвращения с чайной плантации, и мама попросила:
– Почитай мне трошки.
Я раскрыл букварь и торжественно прокричал по слогам:
– Бом-ба!
– Неправильно! – стукнула мама ложкой по кастрюле на плите. – Бон – ба!!! Ны! Ны посерёдушки воеводиха! А не твоя мыкалка мы!
– Но в букварике – «бомба»!
– Ой да ну-у!.. Ой-ёй-ёюшки-и!.. Та шо ж они там у той Москви понимають!? Негодный твий букварюха! Вкрай неправильный! Выкинь ото!
– А уроки по чём делать?
– Тогда не выкидывай.
И больше мама не спорила с учебниками.
1947
«Махновец»
У нас в девятом классе двадцать пять гавриков состояли в комсомоле и пятеро не состояли.
Я был несостоятельный.
И вот после новогодних каникул всех несостоятельных согнали в директорскую яму.[189 - Яма – кабинет.] На эшафот.
Нас выстроили вдоль стены.
Звероватый дирюга молча прохаживался мимо нас по своей боевой цитадели и не сводил с нас жестоких глаз. Не мог налюбоваться, что ли?
Дуректор прохаживался, а наша очкаристая классная комсоргиня Женечка Логинова торжественно тараторила из-за его стола:
– Владимир Иванович! Наш класс борется за звание образцово-показательного. Если б эта пятёрка вступила в комсомол, мы б могли выскочить на первое место по школе! Но честь класса им недорога! Какие-то упёртые махновцы!
Тощий дирик примёр посреди кабинета со сложенными на груди руками и – взбежал он под потолочек ростом – с высоты хищневато уставился на нас поверх очков, будто собирался с нами брухаться:
– Ну! Чито будэм дэлат, уважяемие господа махновци? – распалённо вопросил он с родным грузинским акцентом. – На честь класса вам напиливать? А ми можэм на вас на всэх напиливать! Вот ти! – кровожадно ткнул в мою сторону мохнатым чёрным пальцем. – Как ти смээшь писат на комсомолск газэт, эсли сама не камсомолец? Тожа мнэ юни каресподэнт! Нэ будэшь ти юни, эсли нэ паидёшь на комсомол! Вступай аба бэгом! А то я позвоню на редакция «Молодой сталинец», и ни один строчк твой не побэжит болша на газэт!
Я промолчал.