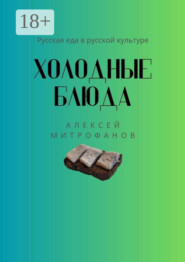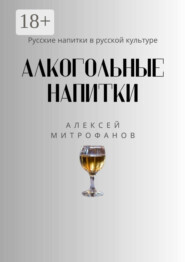По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Быт русской провинции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какие выражения?
– Да вот вы недавно назвали одного гласного думы гуманистом. Разве же так можно? Ведь это заслуженный человек, первой гильдии купец и потомственный почетный гражданин…
– Но откуда же вы взяли, что слово «гуманист» – оскорбительное слово?
– Ну, уж оставьте! Вы в самом деле думаете, что мы, коли не учились в гимназиях да университетах, так, значит, и совсем невежды?»
Более того, время от времени в думе случались всякие сканальные и вместе с тем курьезные события, которые давали хлеб сотрудникам юмористических журналов всероссийского значения. Например, городской голова Горбачев распорядился не пускать на заседания думы одного журналиста. Тот, будучи высококлассным профессионалом, все же проникал в зал заседаний, а его потом оттуда выводили полицейские.
Журнал «Будильник» на это откликнулся карикатурой и подписью: «Странные вещи происходят в ростовской думе! Если г. Горбачев не терпит никакой критики, то ему бы не ростовским головой, а китайским идолом быть надлежало. Это было бы более подходящее для него амплуа».
А «Стрекоза» и вовсе опубликовала специально сочиненную к тому случаю басню:
Какой-то бургомистр, не в меру своевольный,
Печатью местной недовольный,
Швейцару, из солдат, строжайше приказал
Отнюдь не допускать беднягу в думский зал.
«Пуская-ка посидит на хорах!
Со злобой молвил он во взорах. —
Туда ее. Поближе к паукам.
Чтоб знала, как перечить нам.
Посмотрим, хорошо ль ей будет слушать там!»…
Вместе с тем, несмотря на недобрую и комичную славу, польза от думцев была – город все-таки жил, строился, развивался. И Городской Дом у горожан скорее все-таки ассоциировался не с курьезами и склоками, а со счастливыми или же неудачными покупками – первый этаж главной ростовской достопримечательности был отведен под магазины.
Это условие, так же, как эстетическое лидерство постройки, ставилось заранее перед маститым Померанцевым. Более того, еще до окончания строительства были составлены и приняты условия, весьма выгодные для господ арендаторов: «Устройство внутренних лестниц на антресоли и в подвальные помещения относится к обязанности города… Отопление магазинов (центральное) относится к обязанности города и на его счет… Город обязан также устроить на свой счет провода для магазинов для пользования центральным освещением… Арендаторы пользуются бесплатно водопроводом и канализационными устройствами». Не удивительно, что помещения охотно разбирались лучшими коммерческими фирмами Ростова-на-Дону.
Здесь расположились магазины модные, писчебумажные, гастрономические. Некоторые были уникальными и предлагали те товары, которые нигде больше нельзя было купить не только в городе, но и в окретсностях. К примеру, фирма С. Черткова была эксклюзивным представителем в на территории Области войска Донского и Кавказа германского производителя пластинок «Лирофон» и германской же граммофонной фирмы «Карл Линдштрем». Продукция же «Карла Линдштрема» числилась среди лучших в мире. Вот, например описание одного из агрегатов этой фирмы – «Парлофон»: «Замечательно изящный красивый корпус Африканского магони, бока с 3-х сторон отделаны греческой серебряной пилястрой. Механизм „Парлофон“ никилерованный последней конструкции, при заводе играет 12 минут… Концертная мембрана „Эксибишн“ – одна из лучших существующих мембран».
Можно сказать, что магазины Городского Дома составляли этакое элитарное торговое товарищество. Многие вопросы решались совместно, и время от времени к думцам поступали такие бумаги: «Покорнейше просим дозволить приглашенному нами для привлечения публики оркестру играть в определенные дни и часы во дворе городского дома».
Думцы обычно не отказывали. Город не такой уж и большой, зачем же портить отношения с хорошими и, главное, небедными людьми.
Страсти, подобные ростовским, разумеется, разыгрывались не везде. Более характерной была ситуация орловская. Тамошний литератор П. И. Кречетов писал: «Думу составляли исключительно купцы из числа тех, у которых бороды подлиннее и животы пообъемистее… Невзирая на всю несложность городских дел, гласные – купцы собирались в думу неохотно. Они были домоседами и любили больше сидеть около своих крупитчатых купчих… Бывало орловский голова Д. С. Волков чуть не плакал, умоляя, убеждая гласных явиться на заседание думы. Но тщетны были просьбы головы – гласные не являлись, вследствие чего решение даже важных вопросов приходилось откладывать чуть ли не 20 раз».
Вот это – по нашему!
* * *
Весьма своеобразным властным учреждением была так называемая духовная консистория – высшее церковное начальство города. Как не трудно догадаться, она ведала и назнчениями на духовные должности, и распределениями денежных потоков. В результате консистория считалась чуть ли не самым коррумпированным властным органом в провинциальном городе. Ярославский обыватель С. В. Дмитриев писал: «В консисторию без взятки не ходи, ни духовное, ни штатское лицо! Даже противно и стыдно становилось за людей, чиновников консистории, до чего они измельчали в своем взяточничестве, вернее лихоимстве! Когда, например, я усыновлял своих ребят, незадолго перед первой мировой войной, то понадобилась мне справка из консистории о крещении детей, так как церковные книги (метрические) сдавались ежегодно в консисторию, куда я и явился за справкой. Ходил я раза три-четыре, наконец мне один знакомый семинарист Михайловский сказал: „Да ты, Сергей Васильевич, дай чиновнику-то рублишко, вот и вся недолга, а то в наше божественное учреждение проходишь…“ Я так и сделал. Чиновник, взявший „рублишко“, предложил мне тут же сесть, сейчас же достал книгу, списал с нее что требовалось, сбегал поставить печать и „с почтением“ вручил мне нужную справку».
А купец Титов, житель Ростова Великого, описыват тот властный орган в стихотворной форме:
В Консистории, в зале большой,
Архиерейский синклит заседает,
Но не видит Владыка слепой,
Как «Петруха» дела направляет.
Сей Петруха Басманов, злодей
Не утрет слез вдовицы несчастной,
Что напишет рукой загребущей своей,
Скреплено будет подписью властной.
Благодушный владыка заснет,
Табакеркой своею играя,
А Петруха в то время берет,
Одно место двоим обещая.
В той же ярославской консистории служил секретарем премилый во всех отношениях обыватель – Аполлинарий Платонович Крылов. Известный краевед и церковный историк (и то, и другое – абсолютно бессеребреннические поприща) он, заступив на эту должность, вдруг переменился абсолютно. И в Ярославле появилась поговорка: «Аще пал в беду какую, или жаждеши прияти приход себе или сыну позлачнее – возьми в руки динарий и найди, где живет Аполлинарий».
За «динарии» тот краевед готов был, как говорится, собственную дочь живьем зажарить.
От скуки и от пьянства в консисториях случались просто невообразимые истории. Вот один такой случай. Писец костромской консистории Константин Благовещенский, будучи сильно пьян, столкнулся с консисторским же столоначальником Чулковым. Чулков, ясное дело, принялся его ругать. Ругал долго и, скорее всего, нудно. Благовещенскому это надоело, он вытащил револьвер «Смит-и-Вессон», выстрелил в Чулкова и пошел в кабак – видимо, праздновать победу.
Там его и повязали, буквально через несколько минут. Писец был пьян настолько, что вообще не помнил всю эту историю. Ему казалось, что он так с утра в том кабаке и просидел, а на службе вообще не появлялся.
Впрочем, писца наказали не строго. Он был пьян настолько, что не смог попасть даже в стоящего перед ним человка. Чулков, как говорится, отделался легким испугом.
А дела, что разбирались в этих консисториях, были подчас весьма курьезными. Вот, к примеру, какое письмо пришло в 1906 году епископу Калужскому и Боровскому Вениамину от Фрола Титова Сорокина: «Имея у себя совершеннолетнего сына Адриана и не имея в доме своем кроме больной и престарелой жены работницы, я вздумал в нынешний мясоед женить сына, для чего и сосватал ему невесту крестьянскую девицу Татьяну, о чем и уведомил своего приходского священника о. Александра Воронцова. Но священник мне объявил, что венчать моего Адриана не будет потому что будто бы он идиот. Я, находя такой отказ не основательным по следующим основаниям: 1. Не имея никаких причин, указанных в законе Гражданском т. 10, часть 1, ст. от 1-ой до 25-ой о союзе брачном, а также и всем и каждому, как на нашей улице так и на соседней с ней известно, что сын мой Адриан здоров и все работы свойственно по возрасту исполняет, как и другие в его возрасте и 2. что сын мой в минувшем 1905 году призывался к отбытию воинской повинности и по освидетельствовании в присутствии был как льготный 1-го разряда зачислен в ратники ополчения о чем и выдано ему свидетельство за №1435-м, следовательно из всего ясно, что сын мой не идиот, а иначе он не был бы принят в ополчение, да и не мог бы работать, а если по мнению о. Воронцова не так развит сравнительно с другими, то это не есть законной причины к отказу повенчать его. Представляя при сем Вашему Преосвещенству по видимости его свидетельство, выданное из рекрутского присутствия, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Преосвещенство сделать свое Архипастырское распоряжение нашему причту о повенчании моего сына Адриана как не имеющего тому указанных в законе Гражданском препятствий. Свидетельство прошу мне возвратить».
Конечно, высокопоставленный церковник не стал вникать в весь этот бред, и передал послание Сорокина в здешнюю консисторию. Там, разумеется, первым делом потребовали объяснений у священника Александра Воронцова. И батюшка дал показания: «Сын крестьянина Титова, он же Сорокин, Адриан был известен мне лишь только на исповеди, при чем у меня составилось мнение о нем, как о человеке слабоумном. В настоящем году, когда отец его Фрол вздумал женить своего сына Адриана, я, чтобы проверить сложившиеся у меня о нем убеждения, просил прислать означенного Адриана для испытаний. Фрол прислал сына, и в разговоре с ним оказалось: что молитв он не знает ни одной и на все мои вопросы давал ответы неудовлетворительные, так например: на мой вопрос: у кого больше денег, если у меня 80 копеек, а у него 1 рубль, он ответил: «у вас всегда больше денег»; на вопрос, сколько у него на руках пальцев, он ответил: «много», а сколько именно, сказать не мог и кроме того не мог отличить правой руки от левой и т. д.
Ввиду такой умственной неразвитости и незнания же молитв я, несмотря на его работоспособность и зачислении его, Адриана в ратники ополчения (где однако сбора он еще не отбывал), отказал Фролу в повенчании в настоящем мясоеде сына его Адриана, а предложил ему 1. поучить сына молитвам, 2. дождаться учебного сбора, когда бы выяснилась вполне способность его к службе и 3. заставлять его возможно чаще вращаться в кругу людей, через что он может развиться, так как до сего времени он избегал людского общества».
Вениамин, однако, принял судобоносное решение – не взирая ни на что, женить «означенного Адриана».
* * *
Одним из видных властных органов считалось земское собрание. Правда, его деятельность более касалось реальностей не городских, а сельских – открытие школ, медицинское обслуживание, санитарная пропаганда и прочее. Но само здание земства находилось, разумеется, в губернском городе. Там же устраивались многочисленные земские мероприятия. И в том, что касается внешнего вида, земское собрание подчас не уступало думе. В начале прошлого столетия тамбовские газеты предвкушали появление новинки: «Новое здание, слившись со старым, займет пространство до угла Араповской и протянется до здания земской типографии. Новый земский дом обещает быть чуть ли не первым по грандиозности и красоте зданием города».
Со всей губернии шли в земство злезные послания такого рода: «Положение Приказниковского училища весьма безотрадное. Оно стоит на краю деревни, почти в поле, на возвышенном месте; кругом нет ни деревца. Оно выстроено еще в 1889 году из старого материала. Небольшие окна его находятся низко над землей. Полуразвалившееся крыльцо разделяет это здание на две половины: в одной – класс, в другой – комната для учащего и кухня. Эти два помещения разделяются холодными сенями. Опишу сперва обстановку класса. В нем нет раздевальни. У входа висят 60 полушубков, отступя шаг, стоит стол учащего, а за ним – рядами парты, числом 11… Классная доска одна, на ней черная краска от времени уж начала стираться, а посредине нее образовалась трещина насквозь. Эту доску приходится переставлять то в одну половину класса… то в другую…
Ни счетов, ни глобуса не имеется. Школьного шкафа для книг нет, устроено только помещение для них, а именно: место за печкой отгорожено дверями, здесь набиты полочки, на которых и разложены книги. В результате такого устройства шкафа все книги в нем ежедневно покрываются пылью, а за лето многие из них изъедаются мышами. Печка в классе занимает много места, она требует поправки, так как растрескалась, и наверху ее каждый год сторож замазывает глиной. Вот какова классная обстановка. Квартира учащего в этом отношении не уступает классу. Это небольшая комната с перегородкой, которой отделена кухня. Посреди комнаты стоит «спасительница», железная печка. Комната оклеена белыми обоями, которые источены мышами. Пол под ногами скрипит и «ходит». Одна половица на самом ходу вот-вот проломится. Обстановка такова: стол, три табурета и старая железная кровать. В этой комнате зимой бывает очень холодно. Спасаешься только железной печкой, в большие морозы она топится непрестанно. И так жить еще можно, были бы присланы деньги на содержание училища».
А известный ученый Владимир Вернадский был активистом тамбовского земства. Выступал, например за создание школьных библиотек. Предлагал на это дело выдать каждому уезду по 300 рублей. Он уверял: «Назначением этой суммы губернское земство выполнило бы свой нравственный долг по отношению к народному образованию в губернии».
Товарищи по земскому собранию скептически качали головами – дескать, есть вопросы более насущные, а вам же, Владимир Иванович, было б неплохо заняться своими науками. И Вернадский занимался – поднимал все в том же земстве вопросы, связанные с орошением земель. Обретал единомышленников среди садоводов-любителей. Один из них, князь Чолокаев, в частности, писал Владимиру Ивановичу: «На последнем губернском земском собрании прошел вопрос об обследовании почвы всей Тамбовской губернии в течение трех лет, на что ассигновано 33 тысячи рублей. Я, со своей стороны, полагая, что 56 агрономов и столько же их помощников, … принятых для губернии, было бы достаточно для исследования в течение трех лет пахотного слоя почвы; возражал, что для этой цели не нужно приглашать почвоведов и платить за это 33 тысячи, но, видя, что собрание склонно принять предложение управы о приглашении почвоведов, убедил собрание возложить на них исследование не только пахотного слоя почвы, но и подпочвы».
Вернадский соглашался с Чолокаевым.
Земский деятель – особый тип провинциального интеллигента. Череповецкий городской голова И. Милютин писал: «Среди земцев было немало хороших людей. В числе первых можно считать Н. В. Верещагина. Этот молодой человек был достаточно образован, принадлежал к хорошему роду череповецких дворян. После сделанного им почина в деревне втолковать крестьянам о разных полезных нововведениях, он вошел в среду горожан, много говорил им нового, интересного, видимо, искренне желал добра Обществу. Помнится мне, как будто это было вчера, является в город молодой человек из дворян в дубленом полушубке, опоясанном кушаком, в барашковой шапке, в рукавицах. Часто хаживал из усадьбы отца, 18 верст в город и обратно пешком… Вслед за Верещагиным, а точнее рядом с ним, появился в Череповце еще один молодой человек, такой же симпатичный и так же из местных дворян – Александр Николаевич Попов. Первым делом его было открытие 35 школ в уезде. Вместе со школами он организовал удовлетворительно медицинскую часть в уезде».
Был известен еще один земский врач, П. И. Грязнов. Он защитил диссертацию: «Опыт сравнительного изучения гигиенических условий крестьянского быта и медико-топография Череповецкого уезда». Увы, но выводы его были неутешительны: «Из нашего исследования очевидно, как плохи жизненные условия населения, как ничтожна производительность его труда, и как малы средства его в борьбе против неблагоприятных жизненных условий».
Существовал своего рода земский этикет, подчас непостижимый. Вдруг ни с того, ни с сего смоленский съезд земских врачей прерывает свою работу для того, чтобы послать приветственную телеграмму Д. Жбанкову, бывшему земскому врачу: «Многоуважаемый Дмитрий Николаевич! Съезд врачей Смоленской губернии выражает глубокое сожаление, что он лишен возможности пользоваться вашим участием в его работе. С чувством искренней благодарности, вспоминая Вас и Ваши заслуги на пользу врачебно-санитарной организации в губернии, съезд просит вас, как хранителя и проводника лучших земских традиций, принять выражение нашего искреннего уважения и наш привет».
Жбанков сразу же отвечает, тоже телеграммой: «Горячо приветствую Смоленских земских товарищей, снова собравшихся для общего дела. С искренним удовольствием вспоминаю о нашей совместной работе на прошлых съездах и чту память главных инициаторов этих съездов А. Н. Попова и Н. А. Рачинского. От всей души желаю, чтобы дружные и плодотворные занятия представителей земства и земских врачей идеала дорогой земской медицины: «Земский врач в один день может обойти весь свой участок!» Только при этом условии земская медицина приобретает свой истинный характер – быть преимущественно предупредительно-санитарной. Только при этом условии она выполнит завет нашего учителя Н. И. Пирогова: земской медицине придется бороться с невежеством и предрассудками народных масс и видоизменять все их мировоззрение.