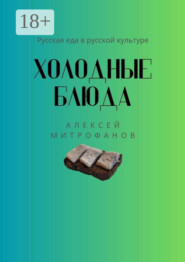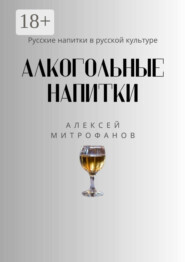По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Быт русской провинции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ходим как-нибудь.
– Да ведь это очень опасно?
– Опасно.
– А можно устроить все это полегче?
– Можно.
– Да для чего же вы не устроите?
– Да так! Ведь сюда не часто ходишь.
«Каков народец русский!» – заключил Михаил Петрович после этой содержательной беседы.
«Полегче» посещение хранилища было устроено лишь в 1896 году, когда под него отвели надвратную церковь рядом с Софийским собором.
Но, наряду с интересом к российским кремлям, возникла другая тенденция – сноса старинных полуразрушенных стен. Ведь уже в то время ощущался дефицит земли, а тут – бессмысленные развалюхи в самом-самом центре города. В частности, снесли тверской, серпуховский, можайский, вяземский, калужский, ярославский и владимирский кремли, а также стены дмитровского и рязанского кремля. Чуть было ни снесли смоленский – за него заступился сам царь Александр Второй. Заявил: «Смоленская городская стена, представляющая собою один из древнейших памятников Отечественной истории, назначена к сломке. Было бы желательно более внимательное охранение древних памятников, имеющих, подобно Смоленской стене, особое историческое значение».
И кремль принялись реставрировать.
* * *
Одна из важный частей коммунального устройства города – снабжение его водой. Вплоть до второй половины девятнадцатого века воду черпали из рек – абы какую. Другое дело, что в то время экология была гораздо лучше, и подобная вода, по большей части, опасности не представляла. Если и случались происшествия, то больше все таки курьезного характера. В частности, в 1861 году вода в реке Клязьме неожиданно окрасилась в желтый цвет. Жители города Владимира сразу же запаниковали. Но химический анализ показал: вредные примеси в воде отсутствуют, пить ее можно. Просто благодаря каким-то непонятным фактором в воде в несколько раз повысилось содержание железа, что и вызвало ее сомнительный окрас.
Все обошлось для владимирцев благополучно, а трактирщики так вовсе получили выгоду – для получения привычного цвета чая теперь требовалось значительно меньше заварки.
Спустя несколько лет история вдруг повторилась. Но во Владимире тогда уже существовал водопровод, и губернатор просто-напросто велел снабдить его особыми «цедилками» – фильтрами, выражаясь современным языком.
Ксатати, владимирский водопровод – один из первых в российской провинции. И его возведение не обошлось без занятной истории. В 1864 году немецкий инженер Карл Дилль предложил для города Владимира проект водопровода. В качестве основания для резервуара (емкостью 8 тысяч ведер) он предложил использовать знаменитые Золотые ворота – памятник архитектуры двенадцатого века.
Владимирцы, тогда еще не научившиеся ценить собственную старину, обрадовались. А городской голова так и вовсе обмолвился: «Золотые ворота как будто нарочно строились для того, чтобы поместить в них резервуар для снабжения города водою». Во «Владимирских губернских ведомостях» появилась на сей счет заметка: «Помещение резервуара избрано, подобно как на Сухаревой башне в Москве, на Золотых воротах, которых верхний этаж будет служить центральным бассейном и от него уже будут строится фонтаны… Этот дельный проект, уменьшающий значительно издержки на возведение новой башни… дает возможность употребить ныне бесполезное здание на необходимое общественное дело».
Дело, казалось, было на мази. Но тут произошло несчастье: «На большой дороге у Золотых ворот, обрушившейся на 5-аршинном пространстве глубины землею сдавило в канаве, где клали водопроводные трубы, двоих чернорабочих и машиниста, из которых один (временнообязанный крестьянин Гаврила Иванов 24-х лет) через час помер».
Дело потребовало долгого расследования, до получения результатов все работы приостановили. И во время этой остановки вдруг опомнились: а для чего портить ворота, если рядом – высоченный Козлов вал. И в 1868 году на том валу установили водонапорную башню. За счет естественной высоты вала, она была сравнительно невелика, зато с возложенными на нее обязанностями справлялась полностью.
Кстати, автором проекта башни был все тот же Карл Карлович Дилль.
Приблизительно тогда же было решено строить водопровод в Ростове-на-Дону. Там тоже решили воспользоваться природным ресурсом – а именно, так называемым «Богатым колодезем» или «Богатым источником», вода из которого била буквально ключом. Воспользовались. Накопали рядышком еще колодцев. Но, увы, источник оказался не настолько сильным, как предполагали. В день удавалось вытягивать из земных недр всего-навсего двести ведер воды.
Впрочем, через год сломался сам водопровод. Его восстановили лишь спустя десятилетие, и в новой городской водоснабжающей системе «Богатому источнику» была отведена роль более чем скромная. Однако и она со временем сделалась непосильной – вода из источника стала вдруг изобиловать вредными и неприятными примесями. Причины оказались малосимпатичными – на расстоянии пятидесяти метров от колодезя прорвало канализационную трубу, и в результате в водопровод начала поступать так называемая клоачная жидкость.
Кроме того, обнаружился «вредный обычай ростовских ассенизаторов опоражнивать ночью бочки в смотровые колодцы». «Богатый источник» пришлось перекрыть.
В 1864 году была построена одна из красивейших водонапорных башен – муромская. Ее, а также всю водопроводную систему, выстроил на собственные деньги городской голова и купец Алексей Ермаков. В результате еще при закладке башни в ее фундамент заложили дощечку с надписью: «В память сего полезного учреждения отныне и вовеки веков да будет башня сия именоваться башнею господина Ермакова».
А в 1867 году газета «Владимирские губернские ведомости» (Муром относился к Владимирской губернии, как и сегодня относится к Владимирской области) подводили своего рода итоги: «30 августа, в день тезоименитства Государя Императора и Государя Наследника Цесаревича в городе Мурмое праздновался с особенной торжественностью. В этот день предположительно было отпраздновать трехлетнюю годовщину муромского водопровода. В течение этих трех лет Муром украсился многими великолепными фонтанами. При открытии водопровода в 1864 г. их было только 6, теперь их 17. Роскошное устройство их служит большим украшением города. Польза несомненна, вода во всех частях города, устроены фонтаны даже за городом на ярмарке и на Бяхеревой горе, куда в недавнем времени выселилось несколько домов из оврагов».
Городские власти во все времена старались использовать высотные сооружения на все 150 процентов. Сейчас их украшают многочислененые гроздья антенны. Во времена же, о которых мы рассказываем, никаких антенн в помине не было, и на водонапорные башни сажали дозорного – чтобы пожары высматривал. Так было, например, с калужской башней. А некто Герман Зотов вспоминал о башне подмосковного города Богородска: «Одной из достопримечательностей… являлась водонапорная башня, которая снабжала весь город питьевой водой. На каждом перекрестке находились водяные колонки, ими пользовались жители прилегающих улиц. Для меня отец заказал жестянщику два маленьких ведра и я помогал ему носить воду. Дома воду держали в деревянных кадушках.
Насосная станция, которая подавала воду на водонапорную башню, располагалась на берегу Клязьмы. Работала она круглосуточно. Когда емкость в башне была наполнена полностью, излишек воды по трубе сбрасывался в Клязьму. Около этого слива находился плот, с которого женщины полоскали белье, а мы ловили рыбу и видели мощную струю сбрасываемой воды.
Эта башня, помимо снабжения города водой, служила и пожарным постом. Наш класс третьего или четвертого года обучения водили на экскурсию на эту башню. Со смотровой площадки открывалась красивейшая панорама города и его далеких окрестностей, так что дежурному пожарнику было легко определить место пожара».
Случались и курьезные сооружения. В частности, жители Иваново-Вознесенска гордились восхитительным колодцем, воздвигнутым здесь в конце девятнадцатого века. Он был выполнен в виде деревянного сруба, покрытого двускатной крышей и увенчанного деревянной головой барана (тот колодец служил для того, чтобы поить животных, правда чаще не баранов, а лошадей). В результате это место так стало и называться – «Барашек». А в скором времени одной из близлежащих улиц даже присвоили официальное название – улица Барашек. Так же, «Барашком», называли находившийся здесь раньше рынок.
А в 1892 году СМИ города Тамбова сообщали: «Городская управа доложила городской думе, что избранная ею комиссия по устранению неисправностей по городскому водопроводу, между прочим, находит необходимым для разъездов техника по надзору за водопроводом, дать ему лошадь и человека… По этому вопросу дума разрешила городской управе израсходовать на покупку лошади до 150 рублей, нанять человека для ухода за лошадью, приняв содержание его и лошади на счет водопроводной сметы».
Водопровод был вещь затратная, и далеко не все расходы можно было сразу же предусмотреть и предрешить.
* * *
Рука об руку с проблемой водоснабжения шла другая, так сказать, противоположная проблема – вывоз нечистот. Этот вопрос – одновременно коммунальный и экологический неоднократно стоял на повестке дня городских дум по всей России. По большому-то счету решение всегда было одно – наладить вывоз отходов жизнедеятельности из многочисленных выгребных ям. Знаменитый в девятнадцатом столетии доктор А. Малышев писал о городе Воронеже: «Горячки и лихорадки будут существовать в Воронеже до тех пор, пока воронежцы не позаботятся о чистоте своих жилищ, об иссушении болот и уничтожении мусорных куч и буераков с водой». Но не получалось. То жара вдруг ускорит процесс разложения, то ассенизаторы напьются и начнут расшвыривать свой малособлазнительный товар направо и налево, то банальным образом на что-нибудь не хватит денег. И, хотя уже в 1870 годы в русских городах стали появляться первые канализационные трубы, они считались редкостью, позволить содержать такое чудо могли только очень богатые люди. Бедным же оставалось лишь платить за вывоз содержимого выгребных ям. Кто не платил – тех штрафовали. Но процесс штрафования воздуха, что называется, не озонировал.
Занятнее всего этот вопрос решался в городе Калуге. Там жил незаурядный человек – изобретатель и предприниматель Бялобжецкий. Он добился монополии на вывоз содержимого выгребных ям, брал за свои услуги сущие гроши, а нечистоты сваливал на своем хуторе «Билибинка». Там все это хозяйство перебраживало, упаковывалось в мешки и вторично продавалось калужанам – уже как удобрение под романтичным названием «пудрет».
Но таких энтузиастов, разумеется, на всю Россию не хватало. И ситуация была такая, что могла обрадовать, увы, одних только фельетонистов. К примеру, автора заметки в газете «Тульская молва» за 1908 год: «Наибольшую славу… Тула создала себе как лучший в России лечебный курорт… Наименьший процент смертности падает на город Тулу.
Объясняется это тем, что редкие микроорганизмы могут жить в исключительно антисанитарной обстановке дворов и улиц. Случайно попадая в Тулу, болезнетворные микробы или разлетаются в паническом ужасе во все стороны, поспешно затыкая носы, или (это относится к наиболее выносливым) влачат жалкое существование и погибают, наконец, мучительною смертью. Так, например, доказано, что холерный вибрион, занесенный в Тулу, немедленно сам заболевает азиатской холерой и через минуту-две умирает в страшных судорогах.
Оттого-то холерные эпидемии, свирепствующие в других городах, не раз обходили Тулу за сто верст, предпочитая сделать крюк, чем рисковать здоровьем и жизнью».
Правда, ситуацию в то время облегчал довольно развитый вторичный рынок всякой дряни. По улицам русских городов расхаживали старьевщики и истошным голосом орали:
– Чугуны, тряпье собираю!
Сегодня такое «тряпье», безусловно, выбрасывается. Тогда же обменивалось – либо а детские свистульки, либо на резиновые мячики, либо на рыболовные крючки, либо на что-нибудь еще такое же полезное в хозяйстве.
Вообще, если сейчас мы чаще говорим о том, что человек губит природу, то тогда стояла ровно противоположная проблема. Природа вытворяла с человеком что хотела, а человек был слабым и беспопощным. Одни лишь наводнения чего стоили! Вот, к примеру, описание такого бедствия в Кронштадте, оставленное офицером Мышлаевским: «Часов в 10 утра мой хозяин (имеется в виду, естественно, домохозяин – АМ.), старик лет 60, вошел ко мне в комнату и сказал, что в улицах, которые стоят на низком месте, разлилась вода, и многие стоят в домах своих почти по колено затоплены, прибавив к этому, что он очень доволен своим местом, которое несколько повыше, а потому воды он не опасается… Между тем вода стала входить к нам во двор… Вскоре показался небольшой ручеек под моими ногами, я перенес стол на другое место и все продолжал писать. Между тем, вода разливалась все более и более, стала приподнимать пол, я по уверению хозяев, не подозревал никакой опасности, велел вынуть из печи горшок щей и поевши хотел идти в канцелярию своего экипажа, но хозяева уговаривали меня никуда не ходить… Но поскольку вода в комнате была уже выше колен, я хотел уйти. Стал отворять дверь, но ее силой затиснуло водою. Покуда мы со стариком употребляли все усилия, чтобы отворить ее, то были в воде уже по пояс. Наконец дверь уступила нашим усилиям, я выбежал на улицу и увидел ужасную сцену. Вода в некоторых домах достигала до крыш… люди сидели на чердаках, кричали и просили о помощи.
Между тем, я стоял в воде почти по горло. На середину улицы выйти было невозможно, потому что меня совсем бы закрыло водою.
По счастью моему разломало ветром забор возле моей хижины. Я взобрался на него, стал на колени, достал рукой до крыши, влез на нее и сел верхом».
Кстати, наводнения обычно приходились на весну, когда подобные купания в ледяной воде могли стоить здоровья, даже жизни.
А во Владимире в 1880 году вдруг совершенно некстати наступила не одна, а две зимы. «Владимирские губернские ведомости так писали об этом: «В одни сутки… сформировалась здесь вторая зима, именно около тех чисел, в которые большей частью бывали оттепели. Первая зима, с хорошим санным путем, установившаяся было с 16 октября, держалась только 2 недели; наступившие в начале ноября оттепели с сильными дождями совершенно ее уничтожили, и после того были такие теплые дни, что напоминали весеннее время.
Быстрая перемена погоды не осталась без последствий: от сильных дождей вода в Клязьме поднялась и поломала лед, движением которого разорвало наплавной мост и снесло его на четверть версты, где мост был остановлен и собран для восстановления езды через реку. Отвести мост назад было невозможно, потому что обыкновенное его место было занято надвинувшимся сверху реки льдом, который от наступивших морозов снова закрепило. Таким образом, чтобы переехать реку мостом, нужно было делать не весьма удобные объезды по обоим берегам. Но еще хорошо, что успели собрать мост, иначе переезд и вовсе был бы невозможен, так как до 21 числа санного пути не существовало. Разрывы моста от осенних паводков, случавшиеся и прежде, могут повториться и на будущее время, до тех пор, пока не будет устроен через Клязьму постоянный мост».
Такие игрища природы были далеко не редкими, и хлопот доставляли значительно больше, чем в наши дни (сейчас от этого, как минимум, мосты не рвет). Но горожане все больше задумывались об экологии в современном смысле слова. И к началу двадцатого века в провинциальных русских городах сделался популярным Праздник древонасаждения. Вот, в частности, как он проходил в Ростове-на-Дону.
Идея возникла в 1909 году. Создалась, как водится, особая комиссия (на этот раз «по древонасаждению»), и секретарь той комиссии послал в городскую управу соответствующую бумагу. В бумаге, среди прочих обстоятельств, излагались цели праздника, которые были весьма напоминали идеологию субботников: «Насаждение садов, парков, рощь и т. д., в которых принимают участие учащиеся, является культурной мерой; оно приучает подрастающее поколение любить растения, холить их, беречь и в то же время трудиться сообща».
Управа в том не углядела никакой якобинской заразы, дала свое добро и весною следующего года состоялся первый капиталистический субботник. Кстати, средства на его организацию предоставили, можно сказать, сами детишки – в городском театре дали в пользу праздника древонасаждения благотворительную оперу «Грибной переполох». Сбор от нее составил 908 рублей 50 копеек.
Одновременно с этим проходила агитационная работа. Детям в школах и гимназиях подробно объясняли для чего нужны деревья и почему именно они, учащиеся должны эти деревья насаждать.
– Да ведь это очень опасно?
– Опасно.
– А можно устроить все это полегче?
– Можно.
– Да для чего же вы не устроите?
– Да так! Ведь сюда не часто ходишь.
«Каков народец русский!» – заключил Михаил Петрович после этой содержательной беседы.
«Полегче» посещение хранилища было устроено лишь в 1896 году, когда под него отвели надвратную церковь рядом с Софийским собором.
Но, наряду с интересом к российским кремлям, возникла другая тенденция – сноса старинных полуразрушенных стен. Ведь уже в то время ощущался дефицит земли, а тут – бессмысленные развалюхи в самом-самом центре города. В частности, снесли тверской, серпуховский, можайский, вяземский, калужский, ярославский и владимирский кремли, а также стены дмитровского и рязанского кремля. Чуть было ни снесли смоленский – за него заступился сам царь Александр Второй. Заявил: «Смоленская городская стена, представляющая собою один из древнейших памятников Отечественной истории, назначена к сломке. Было бы желательно более внимательное охранение древних памятников, имеющих, подобно Смоленской стене, особое историческое значение».
И кремль принялись реставрировать.
* * *
Одна из важный частей коммунального устройства города – снабжение его водой. Вплоть до второй половины девятнадцатого века воду черпали из рек – абы какую. Другое дело, что в то время экология была гораздо лучше, и подобная вода, по большей части, опасности не представляла. Если и случались происшествия, то больше все таки курьезного характера. В частности, в 1861 году вода в реке Клязьме неожиданно окрасилась в желтый цвет. Жители города Владимира сразу же запаниковали. Но химический анализ показал: вредные примеси в воде отсутствуют, пить ее можно. Просто благодаря каким-то непонятным фактором в воде в несколько раз повысилось содержание железа, что и вызвало ее сомнительный окрас.
Все обошлось для владимирцев благополучно, а трактирщики так вовсе получили выгоду – для получения привычного цвета чая теперь требовалось значительно меньше заварки.
Спустя несколько лет история вдруг повторилась. Но во Владимире тогда уже существовал водопровод, и губернатор просто-напросто велел снабдить его особыми «цедилками» – фильтрами, выражаясь современным языком.
Ксатати, владимирский водопровод – один из первых в российской провинции. И его возведение не обошлось без занятной истории. В 1864 году немецкий инженер Карл Дилль предложил для города Владимира проект водопровода. В качестве основания для резервуара (емкостью 8 тысяч ведер) он предложил использовать знаменитые Золотые ворота – памятник архитектуры двенадцатого века.
Владимирцы, тогда еще не научившиеся ценить собственную старину, обрадовались. А городской голова так и вовсе обмолвился: «Золотые ворота как будто нарочно строились для того, чтобы поместить в них резервуар для снабжения города водою». Во «Владимирских губернских ведомостях» появилась на сей счет заметка: «Помещение резервуара избрано, подобно как на Сухаревой башне в Москве, на Золотых воротах, которых верхний этаж будет служить центральным бассейном и от него уже будут строится фонтаны… Этот дельный проект, уменьшающий значительно издержки на возведение новой башни… дает возможность употребить ныне бесполезное здание на необходимое общественное дело».
Дело, казалось, было на мази. Но тут произошло несчастье: «На большой дороге у Золотых ворот, обрушившейся на 5-аршинном пространстве глубины землею сдавило в канаве, где клали водопроводные трубы, двоих чернорабочих и машиниста, из которых один (временнообязанный крестьянин Гаврила Иванов 24-х лет) через час помер».
Дело потребовало долгого расследования, до получения результатов все работы приостановили. И во время этой остановки вдруг опомнились: а для чего портить ворота, если рядом – высоченный Козлов вал. И в 1868 году на том валу установили водонапорную башню. За счет естественной высоты вала, она была сравнительно невелика, зато с возложенными на нее обязанностями справлялась полностью.
Кстати, автором проекта башни был все тот же Карл Карлович Дилль.
Приблизительно тогда же было решено строить водопровод в Ростове-на-Дону. Там тоже решили воспользоваться природным ресурсом – а именно, так называемым «Богатым колодезем» или «Богатым источником», вода из которого била буквально ключом. Воспользовались. Накопали рядышком еще колодцев. Но, увы, источник оказался не настолько сильным, как предполагали. В день удавалось вытягивать из земных недр всего-навсего двести ведер воды.
Впрочем, через год сломался сам водопровод. Его восстановили лишь спустя десятилетие, и в новой городской водоснабжающей системе «Богатому источнику» была отведена роль более чем скромная. Однако и она со временем сделалась непосильной – вода из источника стала вдруг изобиловать вредными и неприятными примесями. Причины оказались малосимпатичными – на расстоянии пятидесяти метров от колодезя прорвало канализационную трубу, и в результате в водопровод начала поступать так называемая клоачная жидкость.
Кроме того, обнаружился «вредный обычай ростовских ассенизаторов опоражнивать ночью бочки в смотровые колодцы». «Богатый источник» пришлось перекрыть.
В 1864 году была построена одна из красивейших водонапорных башен – муромская. Ее, а также всю водопроводную систему, выстроил на собственные деньги городской голова и купец Алексей Ермаков. В результате еще при закладке башни в ее фундамент заложили дощечку с надписью: «В память сего полезного учреждения отныне и вовеки веков да будет башня сия именоваться башнею господина Ермакова».
А в 1867 году газета «Владимирские губернские ведомости» (Муром относился к Владимирской губернии, как и сегодня относится к Владимирской области) подводили своего рода итоги: «30 августа, в день тезоименитства Государя Императора и Государя Наследника Цесаревича в городе Мурмое праздновался с особенной торжественностью. В этот день предположительно было отпраздновать трехлетнюю годовщину муромского водопровода. В течение этих трех лет Муром украсился многими великолепными фонтанами. При открытии водопровода в 1864 г. их было только 6, теперь их 17. Роскошное устройство их служит большим украшением города. Польза несомненна, вода во всех частях города, устроены фонтаны даже за городом на ярмарке и на Бяхеревой горе, куда в недавнем времени выселилось несколько домов из оврагов».
Городские власти во все времена старались использовать высотные сооружения на все 150 процентов. Сейчас их украшают многочислененые гроздья антенны. Во времена же, о которых мы рассказываем, никаких антенн в помине не было, и на водонапорные башни сажали дозорного – чтобы пожары высматривал. Так было, например, с калужской башней. А некто Герман Зотов вспоминал о башне подмосковного города Богородска: «Одной из достопримечательностей… являлась водонапорная башня, которая снабжала весь город питьевой водой. На каждом перекрестке находились водяные колонки, ими пользовались жители прилегающих улиц. Для меня отец заказал жестянщику два маленьких ведра и я помогал ему носить воду. Дома воду держали в деревянных кадушках.
Насосная станция, которая подавала воду на водонапорную башню, располагалась на берегу Клязьмы. Работала она круглосуточно. Когда емкость в башне была наполнена полностью, излишек воды по трубе сбрасывался в Клязьму. Около этого слива находился плот, с которого женщины полоскали белье, а мы ловили рыбу и видели мощную струю сбрасываемой воды.
Эта башня, помимо снабжения города водой, служила и пожарным постом. Наш класс третьего или четвертого года обучения водили на экскурсию на эту башню. Со смотровой площадки открывалась красивейшая панорама города и его далеких окрестностей, так что дежурному пожарнику было легко определить место пожара».
Случались и курьезные сооружения. В частности, жители Иваново-Вознесенска гордились восхитительным колодцем, воздвигнутым здесь в конце девятнадцатого века. Он был выполнен в виде деревянного сруба, покрытого двускатной крышей и увенчанного деревянной головой барана (тот колодец служил для того, чтобы поить животных, правда чаще не баранов, а лошадей). В результате это место так стало и называться – «Барашек». А в скором времени одной из близлежащих улиц даже присвоили официальное название – улица Барашек. Так же, «Барашком», называли находившийся здесь раньше рынок.
А в 1892 году СМИ города Тамбова сообщали: «Городская управа доложила городской думе, что избранная ею комиссия по устранению неисправностей по городскому водопроводу, между прочим, находит необходимым для разъездов техника по надзору за водопроводом, дать ему лошадь и человека… По этому вопросу дума разрешила городской управе израсходовать на покупку лошади до 150 рублей, нанять человека для ухода за лошадью, приняв содержание его и лошади на счет водопроводной сметы».
Водопровод был вещь затратная, и далеко не все расходы можно было сразу же предусмотреть и предрешить.
* * *
Рука об руку с проблемой водоснабжения шла другая, так сказать, противоположная проблема – вывоз нечистот. Этот вопрос – одновременно коммунальный и экологический неоднократно стоял на повестке дня городских дум по всей России. По большому-то счету решение всегда было одно – наладить вывоз отходов жизнедеятельности из многочисленных выгребных ям. Знаменитый в девятнадцатом столетии доктор А. Малышев писал о городе Воронеже: «Горячки и лихорадки будут существовать в Воронеже до тех пор, пока воронежцы не позаботятся о чистоте своих жилищ, об иссушении болот и уничтожении мусорных куч и буераков с водой». Но не получалось. То жара вдруг ускорит процесс разложения, то ассенизаторы напьются и начнут расшвыривать свой малособлазнительный товар направо и налево, то банальным образом на что-нибудь не хватит денег. И, хотя уже в 1870 годы в русских городах стали появляться первые канализационные трубы, они считались редкостью, позволить содержать такое чудо могли только очень богатые люди. Бедным же оставалось лишь платить за вывоз содержимого выгребных ям. Кто не платил – тех штрафовали. Но процесс штрафования воздуха, что называется, не озонировал.
Занятнее всего этот вопрос решался в городе Калуге. Там жил незаурядный человек – изобретатель и предприниматель Бялобжецкий. Он добился монополии на вывоз содержимого выгребных ям, брал за свои услуги сущие гроши, а нечистоты сваливал на своем хуторе «Билибинка». Там все это хозяйство перебраживало, упаковывалось в мешки и вторично продавалось калужанам – уже как удобрение под романтичным названием «пудрет».
Но таких энтузиастов, разумеется, на всю Россию не хватало. И ситуация была такая, что могла обрадовать, увы, одних только фельетонистов. К примеру, автора заметки в газете «Тульская молва» за 1908 год: «Наибольшую славу… Тула создала себе как лучший в России лечебный курорт… Наименьший процент смертности падает на город Тулу.
Объясняется это тем, что редкие микроорганизмы могут жить в исключительно антисанитарной обстановке дворов и улиц. Случайно попадая в Тулу, болезнетворные микробы или разлетаются в паническом ужасе во все стороны, поспешно затыкая носы, или (это относится к наиболее выносливым) влачат жалкое существование и погибают, наконец, мучительною смертью. Так, например, доказано, что холерный вибрион, занесенный в Тулу, немедленно сам заболевает азиатской холерой и через минуту-две умирает в страшных судорогах.
Оттого-то холерные эпидемии, свирепствующие в других городах, не раз обходили Тулу за сто верст, предпочитая сделать крюк, чем рисковать здоровьем и жизнью».
Правда, ситуацию в то время облегчал довольно развитый вторичный рынок всякой дряни. По улицам русских городов расхаживали старьевщики и истошным голосом орали:
– Чугуны, тряпье собираю!
Сегодня такое «тряпье», безусловно, выбрасывается. Тогда же обменивалось – либо а детские свистульки, либо на резиновые мячики, либо на рыболовные крючки, либо на что-нибудь еще такое же полезное в хозяйстве.
Вообще, если сейчас мы чаще говорим о том, что человек губит природу, то тогда стояла ровно противоположная проблема. Природа вытворяла с человеком что хотела, а человек был слабым и беспопощным. Одни лишь наводнения чего стоили! Вот, к примеру, описание такого бедствия в Кронштадте, оставленное офицером Мышлаевским: «Часов в 10 утра мой хозяин (имеется в виду, естественно, домохозяин – АМ.), старик лет 60, вошел ко мне в комнату и сказал, что в улицах, которые стоят на низком месте, разлилась вода, и многие стоят в домах своих почти по колено затоплены, прибавив к этому, что он очень доволен своим местом, которое несколько повыше, а потому воды он не опасается… Между тем вода стала входить к нам во двор… Вскоре показался небольшой ручеек под моими ногами, я перенес стол на другое место и все продолжал писать. Между тем, вода разливалась все более и более, стала приподнимать пол, я по уверению хозяев, не подозревал никакой опасности, велел вынуть из печи горшок щей и поевши хотел идти в канцелярию своего экипажа, но хозяева уговаривали меня никуда не ходить… Но поскольку вода в комнате была уже выше колен, я хотел уйти. Стал отворять дверь, но ее силой затиснуло водою. Покуда мы со стариком употребляли все усилия, чтобы отворить ее, то были в воде уже по пояс. Наконец дверь уступила нашим усилиям, я выбежал на улицу и увидел ужасную сцену. Вода в некоторых домах достигала до крыш… люди сидели на чердаках, кричали и просили о помощи.
Между тем, я стоял в воде почти по горло. На середину улицы выйти было невозможно, потому что меня совсем бы закрыло водою.
По счастью моему разломало ветром забор возле моей хижины. Я взобрался на него, стал на колени, достал рукой до крыши, влез на нее и сел верхом».
Кстати, наводнения обычно приходились на весну, когда подобные купания в ледяной воде могли стоить здоровья, даже жизни.
А во Владимире в 1880 году вдруг совершенно некстати наступила не одна, а две зимы. «Владимирские губернские ведомости так писали об этом: «В одни сутки… сформировалась здесь вторая зима, именно около тех чисел, в которые большей частью бывали оттепели. Первая зима, с хорошим санным путем, установившаяся было с 16 октября, держалась только 2 недели; наступившие в начале ноября оттепели с сильными дождями совершенно ее уничтожили, и после того были такие теплые дни, что напоминали весеннее время.
Быстрая перемена погоды не осталась без последствий: от сильных дождей вода в Клязьме поднялась и поломала лед, движением которого разорвало наплавной мост и снесло его на четверть версты, где мост был остановлен и собран для восстановления езды через реку. Отвести мост назад было невозможно, потому что обыкновенное его место было занято надвинувшимся сверху реки льдом, который от наступивших морозов снова закрепило. Таким образом, чтобы переехать реку мостом, нужно было делать не весьма удобные объезды по обоим берегам. Но еще хорошо, что успели собрать мост, иначе переезд и вовсе был бы невозможен, так как до 21 числа санного пути не существовало. Разрывы моста от осенних паводков, случавшиеся и прежде, могут повториться и на будущее время, до тех пор, пока не будет устроен через Клязьму постоянный мост».
Такие игрища природы были далеко не редкими, и хлопот доставляли значительно больше, чем в наши дни (сейчас от этого, как минимум, мосты не рвет). Но горожане все больше задумывались об экологии в современном смысле слова. И к началу двадцатого века в провинциальных русских городах сделался популярным Праздник древонасаждения. Вот, в частности, как он проходил в Ростове-на-Дону.
Идея возникла в 1909 году. Создалась, как водится, особая комиссия (на этот раз «по древонасаждению»), и секретарь той комиссии послал в городскую управу соответствующую бумагу. В бумаге, среди прочих обстоятельств, излагались цели праздника, которые были весьма напоминали идеологию субботников: «Насаждение садов, парков, рощь и т. д., в которых принимают участие учащиеся, является культурной мерой; оно приучает подрастающее поколение любить растения, холить их, беречь и в то же время трудиться сообща».
Управа в том не углядела никакой якобинской заразы, дала свое добро и весною следующего года состоялся первый капиталистический субботник. Кстати, средства на его организацию предоставили, можно сказать, сами детишки – в городском театре дали в пользу праздника древонасаждения благотворительную оперу «Грибной переполох». Сбор от нее составил 908 рублей 50 копеек.
Одновременно с этим проходила агитационная работа. Детям в школах и гимназиях подробно объясняли для чего нужны деревья и почему именно они, учащиеся должны эти деревья насаждать.