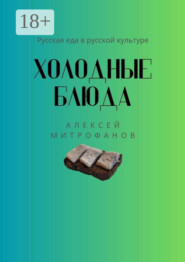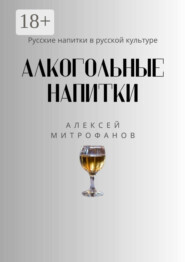По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Быт русской провинции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Впрочем, без родного брата, без Василия Андреевича ничего у городского головы не вышло бы. В Череповце об этом говорили: «Иван Андреевич прожекты пишет, а Василий Андреевич деньги добывает». Действительно, почти все управление милютинскими капиталами взял на себя младший брат Василий. Один из современников об этом вспоминал: «По справедливости можно сказать, что не будь такого брата, при разнородности и разбросанности своих дел – от „хладных финских до пламенной Колхиды“ – едва ли Иван Андреевич мог уделить время на посторонние дела и тем достигнуть всего сделанного».
Всего лишь раз Иван Андреевич дал слабину – когда в 1889 году решил оставить пост городского головы. Но черепане его просто-напросто не отпустили, и Милютину пришлось остаться в должности.
Естественно, Милютин был фигурой легендарной. Про него ходило множество историй – как достоверных, так и вымышленных. Якобы Иван Андреевич собственнолично приезжал на тройке в одну окрестную деревню за тамошним кузнецом – так высоко ценил его квалификацию. С другой стороны, приезжая в Петербург, он останавливался не в гостинице, а во дворце у самого царя, да и питался там не в ресторанчиках, а сидя с государем за одним столом.
Впрочем, доподлинно известно, что Иван Андреевич Милютин переписывался со знаменитым Витте. Он, например, послал тому в 1905 году довольно трогательное послание: «Уполномоченному Статс-Секретарю Сергею Юльевичу Витте.
Находясь на Старорусских водах, не могу не выразить глубокой патриотической радости ввиду торжества высшей мудрости, которою теперь только проникнулся государь, посылая Вас как мужа разума и опыта на совершение великого дела. Я верю, что Ваша поездка в Америку будет началом светлой эры исстрадавшейся России за последние два года. Да пошлет Господь Бог Вам здоровья и благословит высшею мудростью. Остальное все нужное содержится в Вашей недюжинной личности.
Незименный почитатель, старейший городской Голова в России Иван Милютин».
Витте ответил кратко: «Сердечно благодарю за доброе слово. Здравствуйте. Витте».
Видимо, у государственного мужа Витте дел было поболее, чем у городского головы Череповца.
Иван Андреевич скончался в 1907 году. Горе черепан было обильным и, конечно, искренним.
Один сельский учитель прочитал свои стихи:
Не сетуй, град осиротелый!
Не плачь, – его дела с тобой.
Иди, как он, стезею смелой
Навстречу жизни трудовой.
Но град осиротелый, разумеется, и сетовал, и плакал.
Планировалось сделать в честь Милютина целый мемориал – роскошный и внушительный. А спустя несколько лет секретарь городского головы напишет: «Теперь уже Иван Андреевич отошел к Праведному Судии, и дума до сих пор ни в одном из своих заседаний, после его смерти, не обмолвились не одним словом об увековечении памяти о нем в грядущих поколениях осязательным наглядным образом».
Что ж, этого и следовало ожидать.
* * *
Милютин был, конечно, не один такой. Подстать ему – тверской городской голова Алексей Федорович Головинский. Отнюдь не тверской уроженец – он родился в столице, в семье крепостных княгини А. Голицыной. Грамоте обучился лишь к пятнадцати годам (впрочем, подобное умение для крепостного было редкостью и в зрелом возрасте). После чего Алексей начал совершенствоваться в новом навыке, и был даже привлечен к занятиям в конторе – поначалу просто мальчиком на побегушках, а в скором времени – бухгалтером и даже старшим конторщиком. Затем Алексей Федорович был назначен управляющим целой (череповецкой) вотчины Голицыных, а в 1840 году крепостная карьера тридцатилетнего юноши счастливо прерывается – ему даруют долгожданную вольную.
Став свободным человеком, Головинский женится, записывается в купцы (вторая гильдия, а по прошествии нескольких лет и первая) и переезжает в Тверь, где продолжает заниматься своим бизнесом. Но не меньшее внимание он придает, как говорили два десятилетия назад, общественной работе. В 1850 году Алексей Федорович становится почетным членом Тверского губернского попечителя детских приютов, в 1855 становится потомственным почетным гражданином, в 1857 году избирается первым бургомистром, спустя год входит в должность директора Тверского губернского комитета попечительского общества о тюрьмах и избирается членом-корреспондентом Тверского губернского статистического комитета, а в 1863 году он добирается и до вершин своей общественной карьеры – его избирают городским головой.
Существует мудрое неписаное правило – при прочих равных старый госчиновник лучше нового, хотя бы потому, что все, что ему надо, он уже украл, а новый станет воровать с жадностью голодранца. В какой-то степени это относится и к лидерам общественного самоуправления. И в этом смысле жителям Твери не было смысла опасаться назначения нового головы – он к тому времени был человек довольно обеспеченный и, мало что не покушался на городскую казну, так еще и жертвовал огромнейшие суммы из своих собственных средств. Притом еще до назначения Вот, к примеру, одна из заметок опубликованных в «Тверских губернских ведомостях»: «Купец А. Ф. Головинский изъявляет готовность установить за свой счет 300 фонарных столбов, на что пожертвовал 1 тыс. рублей».
Вот, например, заметка из «Ведомостей», касающаяся открытия в Твери женской гимназии: «Открытию гимназии заметно способствовали неутомимая деятельность, энергия и значительные пожертвования А. Ф. Головинского». Он принес в дар новому учреждению пять тысяч рублей серебром.
Кроме того – 2000 рублей на погорельцев, 6000 на библиотеку, и так далее, так далее, так далее.
Став головой, Алексей Федорович не прекратил свою благотворительную деятельность. Он, например, пожертвовал шесть тысяч все та ту же женскую гимназию – «на обучение в этой гимназии дочерей честных и беднейших граждан, оказавших обществу какие-либо заслуги».
Крупнейшая же жертва господина Головинского связана с возведением в Затьмачье земляного вала. Каждую весну этот район страдал от наводнения – разливались воды сразу же двух рек – Волги и Тьмаки. Требовалось строительство оградительного вала, но городской бюджет такими средствами не был богат. Зато они оказались у купца Головинского, который на собственные десять тысяч рублей этот вал и построил.
Вот как описывали «Ведомости» первое крупное испытание, доставшееся валу в 1867 году: «Лед срывал дерн, оголял песок вала, вал разрушался и давал течь. Архитектор Нефедов и полицмейстер Губченко руководили работами 70 рабочих по укреплению слабых мест.
А вода между тем не убывала, как бы издевалась, она то опускалась, то поднималась на вершок или два. И работающие, и жители не видели конца борьбы. К ночи в субботу на Светлое Христово Воскресенье были приведены солдаты Капорского полка. Всю ночь солдаты простояли на валу, ожидая работы, здесь они и встретили светлый праздник… Когда отошла обедня, увидели, что вода убыла на несколько четвертей, к полудню вода упала еще больше, вал был безопасен, Затьмачье спасено. Я думаю, нечего и говорить, какие чувства были в сердцах бедных затьмацких жителей, когда они видели, что они спасены от воды и от непроходимой грязи, что не только не потерпели никаких убытков, но и могли провести святые дни страданий Господа в храме Божьем и молитве, могли встретить драгоценнейший для русского праздник Святого Христова воскресенья вместе со своими православными братьями в церкви, а не на чердаках, страдая от холода и голода… Решили прежде всего отблагодарить Бога, пособившего так счастливо окончить это дело. Благодарственное молебствование было назначено на… 17 апреля. По окончании молебствования в Соборе, после поздравления начальника губернии, за болезнью еще не выезжавшего никуда, г. вице-губернатор кн. Оболенский, другие власти города, виновник всего дела г. Головинский с почтеннейшим купечеством, архитектор Нефедьев и др. отправились за Тьмаку на вал. Сюда из церкви Покрова… были вынесены хоругви и иконы».
Следом за Богом отблагодарили Алексея Федоровича. Князь Оболенский, тверской вице-губернатор, выступил с проникновенной речью:
– Алексей Федорович! По поручению г. начальника губернии князя П. Р. Багратиона и от имени всего населения Затьмачья, в особенности же от имени бедных и несчастных приношу вам сердечную, душевную благодарность. Они не забудут вашего благодения и передадут память о нем внукам своим. Признательность же народная назовет благодетельный вал – валом Головинским.
«Признательность народная» была закреплена и соответствующим документом, официально утвердившим новое название. На валу установили знак: «Вал Головинский. Вал построен иждевением Тверского Городского Головы Потомственного Почетного Гражданина и Кавалера Алексея Федоровича Головинского». А польщенный голова пожертвовал еще две тысячи рублей – на приведение вала в порядок. Паводок был все-таки не шуточным.
Увы, именно этот вал и положил конец карьере Головинского. Купец Бураков, огороды которого располагались на месте оградительного вала, затеял против Алексея Федоровича процесс. И 1871 году, во время перевыборов, рядышком с фамилией нашего гения значился комментарий: «находится под следствием». В результате вместо Головинского был выбран другой житель города, тоже почетный гражданин П. Кобелев.
Спустя несколько месяцев Головинский скончался. А город получил последние пожертвования от своего бывшего головы. В завещании упоминались школы, народные училища и прочие учреждения, которым очень нужны деньги, и на которые обычно денег не хватает.
На таких героях, собственно, держалась русская провинция. Однако, больше на слуху были чудачества чиновников.
От чистого служивого сердца
Обычно в самом центре города, на главной улице стояло здание в стиле ампир, увенчанное высоченной каланчой. Это – полицейский участок и пожарная команда. Как правило их совмещали – ведь и пожар, и преступление требовали оперативности, отваги, ловкости, самоотверженности. Именно в этом доме с каланчой обыватель искал помощи, спасения. Если он, конечно, не убийца, не смутьян – те обходили каланчу сторонкой.
Хотя ничего страшного там, по большому счету, не было. А внешняя ампирная солидность компенсировалась внутренней обшарпанностью. Калужский полицмейстер Е. И. Трояновский жаловался калужскому же городскому голове: «Имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего о командировании господина городского архитектора для тщательного осмотра крыши на здании 1 части и определения причины постоянной ее течи при бесконечных, но бесполезных починках. Помимо особого одолжения, которое Вы окажете лично мне, приказав устранить эту неисправность, переделка крыши нужна настоятельно для сбережения городского здания. Это единственный дом в городе (из тех, которые я знаю), где крыша течет 14 лет постоянно и приходится во время всякого сильного дождя выносить всю мебель в коридор, спасать рояль, подставляя все ведра и тазы, а так как при этом две горничные не успевают собирать в ведра воду с окон при боковом дожде с ветром, то приходится всем членам моей семьи принимать участие в спасении имущества и хорошего пола в приемных комнатах. Надо полагать, что очень скоро провалится и весь потолок, который не мог не сгнить.
Кроме того, прошу попутно приказать осмотреть и переделать единственную кладовую в моей квартире, которую я освободил от имущества еще зимою, так как г. Архитектор вполне справедливо предупредил меня о возможности ее падения вследствие образовавшихся сквозных трещин, постепенно увеличивающихся».
У головы, однако же, своих проблем хватало, тем более, что полицейские числились не по городскому, а по государственному ведомству.
Впрочем, с деньгами встречалась путаница. В той же Калуге исполняющий обязанности помощника полицмейстера писал на адрес городского головы: «По закону 31 января 1906 года штаты городовых Калужской городской полиции изменены с увеличением содержания в размере 13 100 рублей в год. В настоящем году от казны городу пособие на полицию отпущено только 6 550 рублей, но и те, согласно требованию МВД, подлежат удержанию в уплату городского долга казне за содержание полиции. Между тем, ввиду того, что еще ниоткуда не поступало дополнительного содержания городовым, израсходованы на этот предмет другие ассигнования, как то: содержание личного состава, канцелярские, сыскные. Так что не имеется сумм не только на выдачу 20 октября жалования личному составу, но даже нечем рассчитывать увольняемых теперь городовых. Ввиду изложенного, покорнейше прошу Ваше высокоблагородие сделать распоряжение о взносе в казначейство в мое распоряжение на содержание городовых по закону 1906 года 13 100 рублей с получением настоящего отношения».
Ничего, как-то разбирались. И калужский губернатор, в свою очередь, уведмолял здешнего полицмейстера: «Что касается полицейских будок, то 13 лет назад я застал их еще достаточное количество, стоящих, по большей части, по концам улиц; те будки были старинного восьмиугольного типа с печью посредине, последняя была так велика, что оставляла по сторонам пространство по аршину ширины, занятое нарами, куда ложились спать, жить могли только двое, ночуя по очереди. Все упомянутые будки за старостью и негодностью были уже оставлены, а служили лишь ночными притонами для бездомных гуляк, которые могли быть легко задавлены, почему я потребовал уборки их и замены новыми. Управа предпочла временное назначение квартирных денег по 2 руб. в месяц, оставив только выстроенные новые будки: у Смоленской заставы, у Каменного моста и у дома Губернатора. Желая придти на помощь городу и городовым, я построил на засыпанных мною рву у Мясных рядов и пруда у церкви Жен Мироносиц две новые будки хозяйственным способом без всяких ассигнований со стороны Управы, употребив на это все годное от разобранных старых и все старые телеграфные столбы, отстоявшие к тому времени установленный пятилетний срок. Третья большая будка-казарма на две половины для 8-и городовых построена мною же арестантским трудом на углу Нижней Садовой улицы на месте, которое в данное время Дума постановила продать».
Какой уж тут священный трепет?
Сами сотрудники полиции тоже были не особенно страшны. Вот, к примеру, отзыв одного костромича: «В девяностых годах жандармским управлением командовал генерал Виктор Ксенофонтович Никольский. Был он стар, глух, дела вел адъютант. Он же проводил время больше в клубе и в гостях, играя в винт или преферанс. Благо в те времена было в Костроме „тихо“ и не было „беспорядков“. В виде общественной нагрузки он был казначеем нескольких общественных организаций, что-то вроде человеколюбивого общества, ведомства императрицы Марии и тому подобного. Периодически делались ревизии, но каждый раз проверка только какого-нибудь одного общества. Много лет все было в ажуре. Но однажды сделал ревизию одновременно. Когда приходила проверка, Никольский сказал, что не ожидал одновременной проверки и потому поедет домой за деньгами другой организации. Члены ревизионной комиссии ждали возвращения генерала, ждали и, не дождавшись, разошлись. Кто-то предложил, чтобы не выносить сор из избы, собрать деньги и выставить акт о благополучном состоянии денежных средств. Так и было сделано, благо сумма была что-то около 300 рублей. Но после этого случая Никольский подал в отставку, благо что пенсию по старости он уже выслужил».
Провинциальный полицейский не был суперменом. Действовал подчас нелепо, неумело. Архангельская пресса сообщала в 1914 году: «В субботу, 15 марта г. А-в, проходя вечером по Буяновой улице, услышал чьи-то стоны. Осмотревшись, А-в заметил против магазина Березина две барахтающиеся на снегу человеческие фигуры и подошел к ним. Оказалось, на снегу мучилась болями женщина, причем растерявшийся ее муж не знал, что делать. А-в вызвал к месту случившегося городового и попросил его посодействовать отправлению роженицы в родильный приют, но городовой исполнить просьбу отказался, а вызвался отправить женщину почти в бессознательном состоянии в полицию. Г. А-в в свою очередь отказался от „медвежьей услуги“ городового, и женщина была отправлена им на квартиру, где и разрешилась от бремени, причем г. А-ву пришлось во время родов заменить роль повивальной бабки».
Случались проколы по части одежды. Калужский губернатор строжил полицмейстера: «Мною замечено, что классные чины калужской городской полиции появляются на улицах небрежно одетыми. Так, например, вчера, 10 апреля, помощник пристава 3 части Данишевский, проходя по городу вместе с приставом 3 части Денисовым, позволил себе надеть фуражку на затылок, и пристав не счел своим долгом заметить это Данишевскому. Ввиду чего предписываю Вашему Высокородию сделать замечание Данишевскому и Денисову, разъяснив им, что высшие чины полиции как в отношении форменной одежды, так и во всем прочем должны служить примером для низших чинов полиции».
Всего лишь раз Иван Андреевич дал слабину – когда в 1889 году решил оставить пост городского головы. Но черепане его просто-напросто не отпустили, и Милютину пришлось остаться в должности.
Естественно, Милютин был фигурой легендарной. Про него ходило множество историй – как достоверных, так и вымышленных. Якобы Иван Андреевич собственнолично приезжал на тройке в одну окрестную деревню за тамошним кузнецом – так высоко ценил его квалификацию. С другой стороны, приезжая в Петербург, он останавливался не в гостинице, а во дворце у самого царя, да и питался там не в ресторанчиках, а сидя с государем за одним столом.
Впрочем, доподлинно известно, что Иван Андреевич Милютин переписывался со знаменитым Витте. Он, например, послал тому в 1905 году довольно трогательное послание: «Уполномоченному Статс-Секретарю Сергею Юльевичу Витте.
Находясь на Старорусских водах, не могу не выразить глубокой патриотической радости ввиду торжества высшей мудрости, которою теперь только проникнулся государь, посылая Вас как мужа разума и опыта на совершение великого дела. Я верю, что Ваша поездка в Америку будет началом светлой эры исстрадавшейся России за последние два года. Да пошлет Господь Бог Вам здоровья и благословит высшею мудростью. Остальное все нужное содержится в Вашей недюжинной личности.
Незименный почитатель, старейший городской Голова в России Иван Милютин».
Витте ответил кратко: «Сердечно благодарю за доброе слово. Здравствуйте. Витте».
Видимо, у государственного мужа Витте дел было поболее, чем у городского головы Череповца.
Иван Андреевич скончался в 1907 году. Горе черепан было обильным и, конечно, искренним.
Один сельский учитель прочитал свои стихи:
Не сетуй, град осиротелый!
Не плачь, – его дела с тобой.
Иди, как он, стезею смелой
Навстречу жизни трудовой.
Но град осиротелый, разумеется, и сетовал, и плакал.
Планировалось сделать в честь Милютина целый мемориал – роскошный и внушительный. А спустя несколько лет секретарь городского головы напишет: «Теперь уже Иван Андреевич отошел к Праведному Судии, и дума до сих пор ни в одном из своих заседаний, после его смерти, не обмолвились не одним словом об увековечении памяти о нем в грядущих поколениях осязательным наглядным образом».
Что ж, этого и следовало ожидать.
* * *
Милютин был, конечно, не один такой. Подстать ему – тверской городской голова Алексей Федорович Головинский. Отнюдь не тверской уроженец – он родился в столице, в семье крепостных княгини А. Голицыной. Грамоте обучился лишь к пятнадцати годам (впрочем, подобное умение для крепостного было редкостью и в зрелом возрасте). После чего Алексей начал совершенствоваться в новом навыке, и был даже привлечен к занятиям в конторе – поначалу просто мальчиком на побегушках, а в скором времени – бухгалтером и даже старшим конторщиком. Затем Алексей Федорович был назначен управляющим целой (череповецкой) вотчины Голицыных, а в 1840 году крепостная карьера тридцатилетнего юноши счастливо прерывается – ему даруют долгожданную вольную.
Став свободным человеком, Головинский женится, записывается в купцы (вторая гильдия, а по прошествии нескольких лет и первая) и переезжает в Тверь, где продолжает заниматься своим бизнесом. Но не меньшее внимание он придает, как говорили два десятилетия назад, общественной работе. В 1850 году Алексей Федорович становится почетным членом Тверского губернского попечителя детских приютов, в 1855 становится потомственным почетным гражданином, в 1857 году избирается первым бургомистром, спустя год входит в должность директора Тверского губернского комитета попечительского общества о тюрьмах и избирается членом-корреспондентом Тверского губернского статистического комитета, а в 1863 году он добирается и до вершин своей общественной карьеры – его избирают городским головой.
Существует мудрое неписаное правило – при прочих равных старый госчиновник лучше нового, хотя бы потому, что все, что ему надо, он уже украл, а новый станет воровать с жадностью голодранца. В какой-то степени это относится и к лидерам общественного самоуправления. И в этом смысле жителям Твери не было смысла опасаться назначения нового головы – он к тому времени был человек довольно обеспеченный и, мало что не покушался на городскую казну, так еще и жертвовал огромнейшие суммы из своих собственных средств. Притом еще до назначения Вот, к примеру, одна из заметок опубликованных в «Тверских губернских ведомостях»: «Купец А. Ф. Головинский изъявляет готовность установить за свой счет 300 фонарных столбов, на что пожертвовал 1 тыс. рублей».
Вот, например, заметка из «Ведомостей», касающаяся открытия в Твери женской гимназии: «Открытию гимназии заметно способствовали неутомимая деятельность, энергия и значительные пожертвования А. Ф. Головинского». Он принес в дар новому учреждению пять тысяч рублей серебром.
Кроме того – 2000 рублей на погорельцев, 6000 на библиотеку, и так далее, так далее, так далее.
Став головой, Алексей Федорович не прекратил свою благотворительную деятельность. Он, например, пожертвовал шесть тысяч все та ту же женскую гимназию – «на обучение в этой гимназии дочерей честных и беднейших граждан, оказавших обществу какие-либо заслуги».
Крупнейшая же жертва господина Головинского связана с возведением в Затьмачье земляного вала. Каждую весну этот район страдал от наводнения – разливались воды сразу же двух рек – Волги и Тьмаки. Требовалось строительство оградительного вала, но городской бюджет такими средствами не был богат. Зато они оказались у купца Головинского, который на собственные десять тысяч рублей этот вал и построил.
Вот как описывали «Ведомости» первое крупное испытание, доставшееся валу в 1867 году: «Лед срывал дерн, оголял песок вала, вал разрушался и давал течь. Архитектор Нефедов и полицмейстер Губченко руководили работами 70 рабочих по укреплению слабых мест.
А вода между тем не убывала, как бы издевалась, она то опускалась, то поднималась на вершок или два. И работающие, и жители не видели конца борьбы. К ночи в субботу на Светлое Христово Воскресенье были приведены солдаты Капорского полка. Всю ночь солдаты простояли на валу, ожидая работы, здесь они и встретили светлый праздник… Когда отошла обедня, увидели, что вода убыла на несколько четвертей, к полудню вода упала еще больше, вал был безопасен, Затьмачье спасено. Я думаю, нечего и говорить, какие чувства были в сердцах бедных затьмацких жителей, когда они видели, что они спасены от воды и от непроходимой грязи, что не только не потерпели никаких убытков, но и могли провести святые дни страданий Господа в храме Божьем и молитве, могли встретить драгоценнейший для русского праздник Святого Христова воскресенья вместе со своими православными братьями в церкви, а не на чердаках, страдая от холода и голода… Решили прежде всего отблагодарить Бога, пособившего так счастливо окончить это дело. Благодарственное молебствование было назначено на… 17 апреля. По окончании молебствования в Соборе, после поздравления начальника губернии, за болезнью еще не выезжавшего никуда, г. вице-губернатор кн. Оболенский, другие власти города, виновник всего дела г. Головинский с почтеннейшим купечеством, архитектор Нефедьев и др. отправились за Тьмаку на вал. Сюда из церкви Покрова… были вынесены хоругви и иконы».
Следом за Богом отблагодарили Алексея Федоровича. Князь Оболенский, тверской вице-губернатор, выступил с проникновенной речью:
– Алексей Федорович! По поручению г. начальника губернии князя П. Р. Багратиона и от имени всего населения Затьмачья, в особенности же от имени бедных и несчастных приношу вам сердечную, душевную благодарность. Они не забудут вашего благодения и передадут память о нем внукам своим. Признательность же народная назовет благодетельный вал – валом Головинским.
«Признательность народная» была закреплена и соответствующим документом, официально утвердившим новое название. На валу установили знак: «Вал Головинский. Вал построен иждевением Тверского Городского Головы Потомственного Почетного Гражданина и Кавалера Алексея Федоровича Головинского». А польщенный голова пожертвовал еще две тысячи рублей – на приведение вала в порядок. Паводок был все-таки не шуточным.
Увы, именно этот вал и положил конец карьере Головинского. Купец Бураков, огороды которого располагались на месте оградительного вала, затеял против Алексея Федоровича процесс. И 1871 году, во время перевыборов, рядышком с фамилией нашего гения значился комментарий: «находится под следствием». В результате вместо Головинского был выбран другой житель города, тоже почетный гражданин П. Кобелев.
Спустя несколько месяцев Головинский скончался. А город получил последние пожертвования от своего бывшего головы. В завещании упоминались школы, народные училища и прочие учреждения, которым очень нужны деньги, и на которые обычно денег не хватает.
На таких героях, собственно, держалась русская провинция. Однако, больше на слуху были чудачества чиновников.
От чистого служивого сердца
Обычно в самом центре города, на главной улице стояло здание в стиле ампир, увенчанное высоченной каланчой. Это – полицейский участок и пожарная команда. Как правило их совмещали – ведь и пожар, и преступление требовали оперативности, отваги, ловкости, самоотверженности. Именно в этом доме с каланчой обыватель искал помощи, спасения. Если он, конечно, не убийца, не смутьян – те обходили каланчу сторонкой.
Хотя ничего страшного там, по большому счету, не было. А внешняя ампирная солидность компенсировалась внутренней обшарпанностью. Калужский полицмейстер Е. И. Трояновский жаловался калужскому же городскому голове: «Имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего о командировании господина городского архитектора для тщательного осмотра крыши на здании 1 части и определения причины постоянной ее течи при бесконечных, но бесполезных починках. Помимо особого одолжения, которое Вы окажете лично мне, приказав устранить эту неисправность, переделка крыши нужна настоятельно для сбережения городского здания. Это единственный дом в городе (из тех, которые я знаю), где крыша течет 14 лет постоянно и приходится во время всякого сильного дождя выносить всю мебель в коридор, спасать рояль, подставляя все ведра и тазы, а так как при этом две горничные не успевают собирать в ведра воду с окон при боковом дожде с ветром, то приходится всем членам моей семьи принимать участие в спасении имущества и хорошего пола в приемных комнатах. Надо полагать, что очень скоро провалится и весь потолок, который не мог не сгнить.
Кроме того, прошу попутно приказать осмотреть и переделать единственную кладовую в моей квартире, которую я освободил от имущества еще зимою, так как г. Архитектор вполне справедливо предупредил меня о возможности ее падения вследствие образовавшихся сквозных трещин, постепенно увеличивающихся».
У головы, однако же, своих проблем хватало, тем более, что полицейские числились не по городскому, а по государственному ведомству.
Впрочем, с деньгами встречалась путаница. В той же Калуге исполняющий обязанности помощника полицмейстера писал на адрес городского головы: «По закону 31 января 1906 года штаты городовых Калужской городской полиции изменены с увеличением содержания в размере 13 100 рублей в год. В настоящем году от казны городу пособие на полицию отпущено только 6 550 рублей, но и те, согласно требованию МВД, подлежат удержанию в уплату городского долга казне за содержание полиции. Между тем, ввиду того, что еще ниоткуда не поступало дополнительного содержания городовым, израсходованы на этот предмет другие ассигнования, как то: содержание личного состава, канцелярские, сыскные. Так что не имеется сумм не только на выдачу 20 октября жалования личному составу, но даже нечем рассчитывать увольняемых теперь городовых. Ввиду изложенного, покорнейше прошу Ваше высокоблагородие сделать распоряжение о взносе в казначейство в мое распоряжение на содержание городовых по закону 1906 года 13 100 рублей с получением настоящего отношения».
Ничего, как-то разбирались. И калужский губернатор, в свою очередь, уведмолял здешнего полицмейстера: «Что касается полицейских будок, то 13 лет назад я застал их еще достаточное количество, стоящих, по большей части, по концам улиц; те будки были старинного восьмиугольного типа с печью посредине, последняя была так велика, что оставляла по сторонам пространство по аршину ширины, занятое нарами, куда ложились спать, жить могли только двое, ночуя по очереди. Все упомянутые будки за старостью и негодностью были уже оставлены, а служили лишь ночными притонами для бездомных гуляк, которые могли быть легко задавлены, почему я потребовал уборки их и замены новыми. Управа предпочла временное назначение квартирных денег по 2 руб. в месяц, оставив только выстроенные новые будки: у Смоленской заставы, у Каменного моста и у дома Губернатора. Желая придти на помощь городу и городовым, я построил на засыпанных мною рву у Мясных рядов и пруда у церкви Жен Мироносиц две новые будки хозяйственным способом без всяких ассигнований со стороны Управы, употребив на это все годное от разобранных старых и все старые телеграфные столбы, отстоявшие к тому времени установленный пятилетний срок. Третья большая будка-казарма на две половины для 8-и городовых построена мною же арестантским трудом на углу Нижней Садовой улицы на месте, которое в данное время Дума постановила продать».
Какой уж тут священный трепет?
Сами сотрудники полиции тоже были не особенно страшны. Вот, к примеру, отзыв одного костромича: «В девяностых годах жандармским управлением командовал генерал Виктор Ксенофонтович Никольский. Был он стар, глух, дела вел адъютант. Он же проводил время больше в клубе и в гостях, играя в винт или преферанс. Благо в те времена было в Костроме „тихо“ и не было „беспорядков“. В виде общественной нагрузки он был казначеем нескольких общественных организаций, что-то вроде человеколюбивого общества, ведомства императрицы Марии и тому подобного. Периодически делались ревизии, но каждый раз проверка только какого-нибудь одного общества. Много лет все было в ажуре. Но однажды сделал ревизию одновременно. Когда приходила проверка, Никольский сказал, что не ожидал одновременной проверки и потому поедет домой за деньгами другой организации. Члены ревизионной комиссии ждали возвращения генерала, ждали и, не дождавшись, разошлись. Кто-то предложил, чтобы не выносить сор из избы, собрать деньги и выставить акт о благополучном состоянии денежных средств. Так и было сделано, благо сумма была что-то около 300 рублей. Но после этого случая Никольский подал в отставку, благо что пенсию по старости он уже выслужил».
Провинциальный полицейский не был суперменом. Действовал подчас нелепо, неумело. Архангельская пресса сообщала в 1914 году: «В субботу, 15 марта г. А-в, проходя вечером по Буяновой улице, услышал чьи-то стоны. Осмотревшись, А-в заметил против магазина Березина две барахтающиеся на снегу человеческие фигуры и подошел к ним. Оказалось, на снегу мучилась болями женщина, причем растерявшийся ее муж не знал, что делать. А-в вызвал к месту случившегося городового и попросил его посодействовать отправлению роженицы в родильный приют, но городовой исполнить просьбу отказался, а вызвался отправить женщину почти в бессознательном состоянии в полицию. Г. А-в в свою очередь отказался от „медвежьей услуги“ городового, и женщина была отправлена им на квартиру, где и разрешилась от бремени, причем г. А-ву пришлось во время родов заменить роль повивальной бабки».
Случались проколы по части одежды. Калужский губернатор строжил полицмейстера: «Мною замечено, что классные чины калужской городской полиции появляются на улицах небрежно одетыми. Так, например, вчера, 10 апреля, помощник пристава 3 части Данишевский, проходя по городу вместе с приставом 3 части Денисовым, позволил себе надеть фуражку на затылок, и пристав не счел своим долгом заметить это Данишевскому. Ввиду чего предписываю Вашему Высокородию сделать замечание Данишевскому и Денисову, разъяснив им, что высшие чины полиции как в отношении форменной одежды, так и во всем прочем должны служить примером для низших чинов полиции».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: