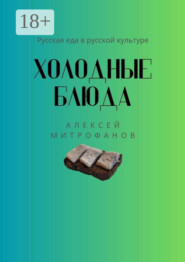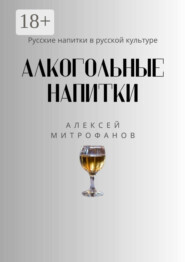По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Быт русской провинции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Аукцион закончился, но дело продолжалось. Власов подал в Сенат жалобу на веретенниковское постановление. Жалоба, естественно, шла через все того же Веретенникова. Чуть ли ни на коленях он стоял, просил, чтоб Власов отозвал свой документ. Тот, однако же, был непреклонен.
Жалоба оказалась в Сенате, где сразу же отменили дурацкое постановление – в столице все прекрасно понимали и про деньги, и про ночи, и про размеры города, и про керосин.
Жители Костромы вздохнули с облегчением.
Кстати, иной раз губернаторы демонстрировали весьма и весьма завидную смекалку. К примеру, Загряжский – руководитель Симбирской губернии – для того, чтобы его пускали в девичьи покои дочери князя М. Баратаева, притворялся старушкой. Один из современников писал: «Он так хорошо загримировался и играл свою роль, что сам отец указал как пройти к дочери. Загряжский похвастался и опозорил имя девушки. Дворянство ополчилось против него, стали грозить скандалом и даже кулачной расправой… И в конце концов Загряжский вынужден был удалиться отнюдь не почетно».
Естественно, друзья Загряжского опровергали эту милую подробность жизни первого лица Симбирска. И так же естественно, что мало кто прислушивался к доводам этих друзей.
Даже когда губернатор умирал, на него как-то не распространялся принцип «либо хорошо, либо ничего». Вот, например, что сообщал «на смерть» другого симбирского губернатора Д. Еремеева некто А. Родионов: «Умер этот бесстыжий и красивый человек; по душе – добрый и готовый помочь как хороший товарищ, но… промотавший огромное свое состояние и пустивший семью чуть ли не по миру! Умер он 65-ти, но еще красивый и готовый поволочиться за каждой юбкой!!!»
Симбирску вообще «везло» на губернаторов. Практически у каждого из них был некий пунктик, предававший ему более чем самобытные черты. Чего стоит, например, такая вот характеристика: «Теренин, крепостник в высшей степени, симбирский дворянин и помещик, необразованный, бывший военный; с брюшком, непредставительный, плохой работник, ухаживавший за архиереями и губернаторами, пока сам был небольшой птицею, держал себя гордо, надменно в сношениях с низшими, а иногда и равными, был с высшими же и равными натянуто любезен (двойственно). Имел наружный военный лоск. Любил собачью охоту, почему в своем имении держал не только охотничьи своры, но целый собачий двор… Был… гостеприимен, хлебосолен».
Кто-то поражал одной лишь своей внешностью. Например, о господине Хомутове сообщалось: «Хомутов хорошей наружности, лет под 50, высок, плешив, с большим носом – весьма представительная личность, любезен, веселонравен, любит общество. Жена его – маленькая горбунья, но зато урожденная Озерова».
А некто Лукьянович, например, был донельзя ленив. Один из его современников писал: «Симбирский губернатор Лукьянович… был человек простой, добрый, большой хлебосол, любивший хорошо пожить, но не заниматься делами и особенно письменными, которые он вполне предоставлял своему секретарю, а сам только подписывал бумаги, исполняя эту обязанность по необходимости и не всегда терпеливо. Про него рассказывают анекдот: в одно прекрасное утро он мечтал у себя в кабинете о предстоящем пикнике, как увидал входящего к нему секретаря с огромною кипою бумаг для подписи; недовольный таким визитом, он сказал секретарю: «Что же вы, Яким Сергеевич, бумаги-то все ко мне, да ко мне, а деньги-то все себе, да себе – так возьмите же и бумаги себе».
Астраханский губернатор Бекетов прославился тем, что писал трогательные вирши:
Не кидай притворных взоров
И не тщись меня смущать.
Не старайся излеченны
Раны тщетно растравлять.
Я твою неверность знаю
И уж боле не пылаю
Тем огнем, что сердце жгло,
Уж и так в безмерной скуке,
В горьком плаче,
В смертной муке
Дней немало протекло…
И так далее.
Но самое, пожалуй, замечательное происшествие случилось с губернатором Воронежа князем В. Трубецким. Педагог Н. Бунаков писал об этом: «Князь любил покутить, и в его воронежской жизни был случай, доказавший, что губерния могла бы прекрасно процветать и без губернатора. Это случилось так. Один раз кучер привез выпившего и заснувшего в карете князя домой; постоял, постоял у крыльца и полагая, что барин вышел, отпряг лошадей, а карету задвинул в сарай, который, конечно, запер. Наступило утро, князя нет; проходит день, князя все нет. Но дела в губернии и в городе все-таки шли своим порядком и без участия губернатора, который нашелся только тогда, когда кучер вздумал помыть карету: оказалось, что по сараю расхаживает губернатор».
Действительно, без губернаторов – проще. Особенно без тех, которые описывались Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города». А ведь большинство из них имело прототипы. Один из них «служил» писателю в городе Туле с декабря 1866 года по октябрь 1867 года, когда тот возглавлял Казенную палату. После чего был снят со столь высокой должности по повелению самого Александра II с убийственной формулировкой – как «чиновник, проникнутый идеями, не согласными с видами государственной пользы».
Естественно, что Салтыков-Щедрин не оставлял свои литературные труды и на казенной службе. Именно в это время возник наиболее зловещий образ из «Истории одного города» – губернатор Прыщ.
Майор Иван Пантелеевич Прыщ выглядел молодцом: «Плечистый, сложенный кряжем, он всею своею фигурой так, казалось, и говорил: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу! я еще очень могу! Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый».
Прыщ был самым демократичным губернатором города Глупова. Однако именно при нем жители наслаждались необыкновенным процветанием: «Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностью, и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что, кроме продажи, осталось даже на собственное употребление».
Однако Иван Пантелеевич имел некоторые странности – спать, например, ложился на ледник, к тому же издавал запахи трюфелей и прочий гастрономии. В результате выяснилось, что у губернатора была нафаршированная голова, и ее сожрал глуповский предводитель дворянства.
В то время, когда Салтыков-Щедрин руководил палатой, в Туле губернаторствовал генерал Шидловский, отличавшийся невероятным тупоумием. И, без сомнения, Михаил Евграфович воспел в «Истории одного города» вполне определенного градоначальника.
* * *
От губернаторов не отставали и деятели рангом ниже. Собирательный образ такого чиновника вывел А. Ремизов в повести «Неуемный бубен»: «Двадцати лет начал он свою судейскую службу в длинной, низкой, закопченной канцелярии уголовного отделения, во втором этаже, и вот уже минуло сорок лет, много с тех пор сменилось секретарей, еще больше кандидатов – все чужой, наплывный народ, а он все сидел себе за большим, изрезанным ножами столом у окна, выходящего в стену трактира, около которой испокон веку складывались дрова, и переписывал бумаги.
Поговорите-ка, кого-кого он только не знает, каких губернаторов не вспомнит, о которых давно уже все позабыли, да что губернаторов! – председателя первого суда помнит».
Впрочем, у этого образа был прототип – реальный костромской чиновник, некто Полетаев, служивший в городском суде. О другом же судебном чиновнике писал костромич Чумаков: «В окружном суде был товарищем прокурора некий Кошуро-Масальский, стяжавший себе недобрую славу на политических процессах, на которых он неизменно добивался осуждения обвиняемых. Такая его усердная деятельность была замечена свыше, и он назначен был харьковским вице-губернатором. На новом месте он продолжал свою усердную службу царю и отечеству, начал громить разные общественные учреждения, возбудив к себе всеобщую ненависть. Все его деяния не встречали отпора со стороны его начальства. Губернатор Катеринич фактически делами не занимался, так как больше проводил время в разъездах.
Приехав на Пасху уже вице-губернатором в Кострому, где еще жил его семья, он явился на пасхальную заутреню в церковь Иоанна Богослова, где был прихожанином, в сопровождении двух городовых в полном вооружении – слева сабля, справа револьвер. Эти два городовых простояли всю службу за спиной Масальского, прикрывая его от всех прочих. Когда он двинулся к выходу, городовые следовали за ним по пятам. Все это вызвало много разговоров, так как до сих пор никто не являлся в церковь под охраной полиции, ибо трудно было предположить, чтобы там произошло какое-либо покушение. Даже в очень обостренные времена 1905 года не было слышно о покушениях в церквах.
Будучи вице-губернатором в Харькове, он приказал, чтобы телефонные барышни при вызове из его личного телефона обязательно спрашивали не «что угодно?», как всех, а прибавляли «Ваше превосходительство». Так что, если бы телефоном воспользовался лакей, то он тоже именовался бы превосходительством».
А от же Чумаков описывал прелюбопытнейшую парочку: «В акцизном губернском управлении служил чиновник Бельченко, был он толстенький, кругленький, лысоватый, и лицо его было полно добродушия. Жена же у него была значительно моложе его, этак лет 35-ти, очень следила за собой, боясь потерять фигуру, была очень стройной. Звали ее Конкордия Николаевна, а за глаза Корочкой. Поэтому мужа ее, Александра Александровича именовали Мякишем. Когда они шли по улице, говорили: «Смотрите, Корочка идет с Мякишем».
* * *
Разумеется, не все чиновники были персонами трагикомичными. Взять хоть того же Салтыкова-Щедрина, неоднократно состоявшего при разных госучреждериях в разных же, но не малых должностях. В частности, в 1858 году он вступил в должность рязанского вице-губернатора. Он сразу удивил своих будущих сослуживцев невиданной ими до этого демократичностью. Один из современников писал: «Салтыков приехал без всякой помпы, запыленный, в простом тарантасе, – совсем, казалось, точно и не вице-губернатор, а самый простой чиновник.
Поразил он и своим подходом к службе. Другие очевидцы вспоминали: «Быстр он был на понимание всего, с чем бы ни пришлось ему встретиться, до такой, степени, что самую запутанную, написанную старым приказным слогом бумагу читал он, близко поднося ее к своим близоруким глазам, настолько скоро, что по движению его носа слева направо и обратно, по мере того, как глаза его пробегали строчки, можно было судить о стремительности процесса усвоения им всего прочитанного. Прочтя бумагу, он брал перо и сразу полагал на бумаге резолюцию, поражавшую проникновенно ясным пониманием того, что необходимого, справедливого и полезного для дела по этой бумаге нужно было сделать».
Здесь же, в здании губернского правления, при Салтыкове оборудована была современнейшая типография. Понятно, что книжное дело было для писателя стихией близкой. И не удивительно, что он воспользовался своими петербургскими знакомствами. Писал, к примеру, В. П. Безобразову, в то время редактировавшему журнал Министерства городских имуществ: «С величайшим удовольствием узнал я, многоуважаемый Владимир Павлович, об открытии Вами типографии и словолитни. По этому случаю у меня к Вам следующая всепокорнейшая просьба. Здешняя губернская типография имеет нужду в шрифте, и потому было бы весьма желательно, если бы Вы согласились исполнить заказ типографии и выслать полный шрифт с тем, чтобы типография выплатила вам сумму по третям… Если это дело для Вас возможное, то благоволите прислать ко мне: образцы шрифтов, в чем заключается полный шрифт, т. е. обыкновенный с подлежащим количеством петита, цицеро, латинских букв и т. д.»
Шрифты были получены. Дело с типографией пошло.
Салтыков Щедрин вновь оказался в городе Рязани в 1867 году. На этот раз он заступил в должность руководителя казенной палаты, располагавшейся все в том же доме. И снова поражал своих сотрудников: «Салтыков занимался в палате делом очень усердно, скоро и внимательно. Обладал быстрым соображением и богатою памятью, он никогда дел у себя не задерживал и наблюдал, чтобы и другие быстро решали дела. В особенности следил, чтобы не задерживали просителей и не подвергали их прежней волоките. Деловые бумаги, им сочиненные, представляли в некотором роде литературную редкость».
Но в основном рязанцев поражало следующие: «При нем не брали взяток, или так называемых благодарностей… не пороли чиновников и не сажали их под арест».
Такого странного начальника жителям города еще не доводилось видеть.
А в перервы между этими назначениями были и другие, в том числе, должность вице-губернатора Твери (1860 – 1862 годы). Поначалу нового чиновника встретили настороженно. Одной из причин для того послужил как раз поиск жилища. Некто А. А. Головачев писал в одном из писем: «У нас на каждом шагу делаются гадости, а вежливый нос (Павел Трофимович Баранов, губернатор – АМ.) смотрит на все с телячьим взглядом. Салтыкова, поступившего на место Иванова, я еще не видел, но разные штуки его сильно не нравятся мне с первого раза. Например, посылать за полицмейстером для отыскания ему квартиры и принимать частного пристава в лакейской; это такие выходки, от которых воняет за несколько комнат».
Поначалу Салтыкову-Щедрину дали весьма нелестное прозвание. Другой житель Твери писал: «По уездам предписано сделать выборы предводителей по представлению Носа вежливого… Эта выходка Носа вежливого окончательно доказывает его лакейскую душу. Скрежет зубовный вступил уже недели две с половиною в должность, и, как слышно, дает чувствовать себя».
«Скрежет зубовный» и есть Михаил Евграфович.
Впрочем, в скором времени жители города, что называется, сменили гнев на милость. А в официальной справке, данной Салтыкову-Щедрину значились такие его качества: «Вице-Губернатор Салтыков сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчиненных».
Но несмотря на это Салтыков-Щедрин катастрофически не уживался со своими сослуживцами – как низшыми, так и высшими. Был, что называется, не того поля ягодой.
Относилось это и к другому литератору, И. С. Аксакову. Он исправлял должность товарища председателя уголовной палаты в Калуге и признавался: «До сих пор ни с кем, кроме Унковских, не познакомился и решительно так же чужд Калуге, ее жителям, ее интересам, как какому-нибудь Моршанску».
Саму же службу он описывал в стихах:
Трудись, младой герой-чиновник,
Не пожалей, смотри, себя.
И государственный сановник
Представит к ордену тебя!!!
…А дома пусто, безотрадно,
Жалоба оказалась в Сенате, где сразу же отменили дурацкое постановление – в столице все прекрасно понимали и про деньги, и про ночи, и про размеры города, и про керосин.
Жители Костромы вздохнули с облегчением.
Кстати, иной раз губернаторы демонстрировали весьма и весьма завидную смекалку. К примеру, Загряжский – руководитель Симбирской губернии – для того, чтобы его пускали в девичьи покои дочери князя М. Баратаева, притворялся старушкой. Один из современников писал: «Он так хорошо загримировался и играл свою роль, что сам отец указал как пройти к дочери. Загряжский похвастался и опозорил имя девушки. Дворянство ополчилось против него, стали грозить скандалом и даже кулачной расправой… И в конце концов Загряжский вынужден был удалиться отнюдь не почетно».
Естественно, друзья Загряжского опровергали эту милую подробность жизни первого лица Симбирска. И так же естественно, что мало кто прислушивался к доводам этих друзей.
Даже когда губернатор умирал, на него как-то не распространялся принцип «либо хорошо, либо ничего». Вот, например, что сообщал «на смерть» другого симбирского губернатора Д. Еремеева некто А. Родионов: «Умер этот бесстыжий и красивый человек; по душе – добрый и готовый помочь как хороший товарищ, но… промотавший огромное свое состояние и пустивший семью чуть ли не по миру! Умер он 65-ти, но еще красивый и готовый поволочиться за каждой юбкой!!!»
Симбирску вообще «везло» на губернаторов. Практически у каждого из них был некий пунктик, предававший ему более чем самобытные черты. Чего стоит, например, такая вот характеристика: «Теренин, крепостник в высшей степени, симбирский дворянин и помещик, необразованный, бывший военный; с брюшком, непредставительный, плохой работник, ухаживавший за архиереями и губернаторами, пока сам был небольшой птицею, держал себя гордо, надменно в сношениях с низшими, а иногда и равными, был с высшими же и равными натянуто любезен (двойственно). Имел наружный военный лоск. Любил собачью охоту, почему в своем имении держал не только охотничьи своры, но целый собачий двор… Был… гостеприимен, хлебосолен».
Кто-то поражал одной лишь своей внешностью. Например, о господине Хомутове сообщалось: «Хомутов хорошей наружности, лет под 50, высок, плешив, с большим носом – весьма представительная личность, любезен, веселонравен, любит общество. Жена его – маленькая горбунья, но зато урожденная Озерова».
А некто Лукьянович, например, был донельзя ленив. Один из его современников писал: «Симбирский губернатор Лукьянович… был человек простой, добрый, большой хлебосол, любивший хорошо пожить, но не заниматься делами и особенно письменными, которые он вполне предоставлял своему секретарю, а сам только подписывал бумаги, исполняя эту обязанность по необходимости и не всегда терпеливо. Про него рассказывают анекдот: в одно прекрасное утро он мечтал у себя в кабинете о предстоящем пикнике, как увидал входящего к нему секретаря с огромною кипою бумаг для подписи; недовольный таким визитом, он сказал секретарю: «Что же вы, Яким Сергеевич, бумаги-то все ко мне, да ко мне, а деньги-то все себе, да себе – так возьмите же и бумаги себе».
Астраханский губернатор Бекетов прославился тем, что писал трогательные вирши:
Не кидай притворных взоров
И не тщись меня смущать.
Не старайся излеченны
Раны тщетно растравлять.
Я твою неверность знаю
И уж боле не пылаю
Тем огнем, что сердце жгло,
Уж и так в безмерной скуке,
В горьком плаче,
В смертной муке
Дней немало протекло…
И так далее.
Но самое, пожалуй, замечательное происшествие случилось с губернатором Воронежа князем В. Трубецким. Педагог Н. Бунаков писал об этом: «Князь любил покутить, и в его воронежской жизни был случай, доказавший, что губерния могла бы прекрасно процветать и без губернатора. Это случилось так. Один раз кучер привез выпившего и заснувшего в карете князя домой; постоял, постоял у крыльца и полагая, что барин вышел, отпряг лошадей, а карету задвинул в сарай, который, конечно, запер. Наступило утро, князя нет; проходит день, князя все нет. Но дела в губернии и в городе все-таки шли своим порядком и без участия губернатора, который нашелся только тогда, когда кучер вздумал помыть карету: оказалось, что по сараю расхаживает губернатор».
Действительно, без губернаторов – проще. Особенно без тех, которые описывались Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города». А ведь большинство из них имело прототипы. Один из них «служил» писателю в городе Туле с декабря 1866 года по октябрь 1867 года, когда тот возглавлял Казенную палату. После чего был снят со столь высокой должности по повелению самого Александра II с убийственной формулировкой – как «чиновник, проникнутый идеями, не согласными с видами государственной пользы».
Естественно, что Салтыков-Щедрин не оставлял свои литературные труды и на казенной службе. Именно в это время возник наиболее зловещий образ из «Истории одного города» – губернатор Прыщ.
Майор Иван Пантелеевич Прыщ выглядел молодцом: «Плечистый, сложенный кряжем, он всею своею фигурой так, казалось, и говорил: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу! я еще очень могу! Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый».
Прыщ был самым демократичным губернатором города Глупова. Однако именно при нем жители наслаждались необыкновенным процветанием: «Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностью, и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что, кроме продажи, осталось даже на собственное употребление».
Однако Иван Пантелеевич имел некоторые странности – спать, например, ложился на ледник, к тому же издавал запахи трюфелей и прочий гастрономии. В результате выяснилось, что у губернатора была нафаршированная голова, и ее сожрал глуповский предводитель дворянства.
В то время, когда Салтыков-Щедрин руководил палатой, в Туле губернаторствовал генерал Шидловский, отличавшийся невероятным тупоумием. И, без сомнения, Михаил Евграфович воспел в «Истории одного города» вполне определенного градоначальника.
* * *
От губернаторов не отставали и деятели рангом ниже. Собирательный образ такого чиновника вывел А. Ремизов в повести «Неуемный бубен»: «Двадцати лет начал он свою судейскую службу в длинной, низкой, закопченной канцелярии уголовного отделения, во втором этаже, и вот уже минуло сорок лет, много с тех пор сменилось секретарей, еще больше кандидатов – все чужой, наплывный народ, а он все сидел себе за большим, изрезанным ножами столом у окна, выходящего в стену трактира, около которой испокон веку складывались дрова, и переписывал бумаги.
Поговорите-ка, кого-кого он только не знает, каких губернаторов не вспомнит, о которых давно уже все позабыли, да что губернаторов! – председателя первого суда помнит».
Впрочем, у этого образа был прототип – реальный костромской чиновник, некто Полетаев, служивший в городском суде. О другом же судебном чиновнике писал костромич Чумаков: «В окружном суде был товарищем прокурора некий Кошуро-Масальский, стяжавший себе недобрую славу на политических процессах, на которых он неизменно добивался осуждения обвиняемых. Такая его усердная деятельность была замечена свыше, и он назначен был харьковским вице-губернатором. На новом месте он продолжал свою усердную службу царю и отечеству, начал громить разные общественные учреждения, возбудив к себе всеобщую ненависть. Все его деяния не встречали отпора со стороны его начальства. Губернатор Катеринич фактически делами не занимался, так как больше проводил время в разъездах.
Приехав на Пасху уже вице-губернатором в Кострому, где еще жил его семья, он явился на пасхальную заутреню в церковь Иоанна Богослова, где был прихожанином, в сопровождении двух городовых в полном вооружении – слева сабля, справа револьвер. Эти два городовых простояли всю службу за спиной Масальского, прикрывая его от всех прочих. Когда он двинулся к выходу, городовые следовали за ним по пятам. Все это вызвало много разговоров, так как до сих пор никто не являлся в церковь под охраной полиции, ибо трудно было предположить, чтобы там произошло какое-либо покушение. Даже в очень обостренные времена 1905 года не было слышно о покушениях в церквах.
Будучи вице-губернатором в Харькове, он приказал, чтобы телефонные барышни при вызове из его личного телефона обязательно спрашивали не «что угодно?», как всех, а прибавляли «Ваше превосходительство». Так что, если бы телефоном воспользовался лакей, то он тоже именовался бы превосходительством».
А от же Чумаков описывал прелюбопытнейшую парочку: «В акцизном губернском управлении служил чиновник Бельченко, был он толстенький, кругленький, лысоватый, и лицо его было полно добродушия. Жена же у него была значительно моложе его, этак лет 35-ти, очень следила за собой, боясь потерять фигуру, была очень стройной. Звали ее Конкордия Николаевна, а за глаза Корочкой. Поэтому мужа ее, Александра Александровича именовали Мякишем. Когда они шли по улице, говорили: «Смотрите, Корочка идет с Мякишем».
* * *
Разумеется, не все чиновники были персонами трагикомичными. Взять хоть того же Салтыкова-Щедрина, неоднократно состоявшего при разных госучреждериях в разных же, но не малых должностях. В частности, в 1858 году он вступил в должность рязанского вице-губернатора. Он сразу удивил своих будущих сослуживцев невиданной ими до этого демократичностью. Один из современников писал: «Салтыков приехал без всякой помпы, запыленный, в простом тарантасе, – совсем, казалось, точно и не вице-губернатор, а самый простой чиновник.
Поразил он и своим подходом к службе. Другие очевидцы вспоминали: «Быстр он был на понимание всего, с чем бы ни пришлось ему встретиться, до такой, степени, что самую запутанную, написанную старым приказным слогом бумагу читал он, близко поднося ее к своим близоруким глазам, настолько скоро, что по движению его носа слева направо и обратно, по мере того, как глаза его пробегали строчки, можно было судить о стремительности процесса усвоения им всего прочитанного. Прочтя бумагу, он брал перо и сразу полагал на бумаге резолюцию, поражавшую проникновенно ясным пониманием того, что необходимого, справедливого и полезного для дела по этой бумаге нужно было сделать».
Здесь же, в здании губернского правления, при Салтыкове оборудована была современнейшая типография. Понятно, что книжное дело было для писателя стихией близкой. И не удивительно, что он воспользовался своими петербургскими знакомствами. Писал, к примеру, В. П. Безобразову, в то время редактировавшему журнал Министерства городских имуществ: «С величайшим удовольствием узнал я, многоуважаемый Владимир Павлович, об открытии Вами типографии и словолитни. По этому случаю у меня к Вам следующая всепокорнейшая просьба. Здешняя губернская типография имеет нужду в шрифте, и потому было бы весьма желательно, если бы Вы согласились исполнить заказ типографии и выслать полный шрифт с тем, чтобы типография выплатила вам сумму по третям… Если это дело для Вас возможное, то благоволите прислать ко мне: образцы шрифтов, в чем заключается полный шрифт, т. е. обыкновенный с подлежащим количеством петита, цицеро, латинских букв и т. д.»
Шрифты были получены. Дело с типографией пошло.
Салтыков Щедрин вновь оказался в городе Рязани в 1867 году. На этот раз он заступил в должность руководителя казенной палаты, располагавшейся все в том же доме. И снова поражал своих сотрудников: «Салтыков занимался в палате делом очень усердно, скоро и внимательно. Обладал быстрым соображением и богатою памятью, он никогда дел у себя не задерживал и наблюдал, чтобы и другие быстро решали дела. В особенности следил, чтобы не задерживали просителей и не подвергали их прежней волоките. Деловые бумаги, им сочиненные, представляли в некотором роде литературную редкость».
Но в основном рязанцев поражало следующие: «При нем не брали взяток, или так называемых благодарностей… не пороли чиновников и не сажали их под арест».
Такого странного начальника жителям города еще не доводилось видеть.
А в перервы между этими назначениями были и другие, в том числе, должность вице-губернатора Твери (1860 – 1862 годы). Поначалу нового чиновника встретили настороженно. Одной из причин для того послужил как раз поиск жилища. Некто А. А. Головачев писал в одном из писем: «У нас на каждом шагу делаются гадости, а вежливый нос (Павел Трофимович Баранов, губернатор – АМ.) смотрит на все с телячьим взглядом. Салтыкова, поступившего на место Иванова, я еще не видел, но разные штуки его сильно не нравятся мне с первого раза. Например, посылать за полицмейстером для отыскания ему квартиры и принимать частного пристава в лакейской; это такие выходки, от которых воняет за несколько комнат».
Поначалу Салтыкову-Щедрину дали весьма нелестное прозвание. Другой житель Твери писал: «По уездам предписано сделать выборы предводителей по представлению Носа вежливого… Эта выходка Носа вежливого окончательно доказывает его лакейскую душу. Скрежет зубовный вступил уже недели две с половиною в должность, и, как слышно, дает чувствовать себя».
«Скрежет зубовный» и есть Михаил Евграфович.
Впрочем, в скором времени жители города, что называется, сменили гнев на милость. А в официальной справке, данной Салтыкову-Щедрину значились такие его качества: «Вице-Губернатор Салтыков сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчиненных».
Но несмотря на это Салтыков-Щедрин катастрофически не уживался со своими сослуживцами – как низшыми, так и высшими. Был, что называется, не того поля ягодой.
Относилось это и к другому литератору, И. С. Аксакову. Он исправлял должность товарища председателя уголовной палаты в Калуге и признавался: «До сих пор ни с кем, кроме Унковских, не познакомился и решительно так же чужд Калуге, ее жителям, ее интересам, как какому-нибудь Моршанску».
Саму же службу он описывал в стихах:
Трудись, младой герой-чиновник,
Не пожалей, смотри, себя.
И государственный сановник
Представит к ордену тебя!!!
…А дома пусто, безотрадно,