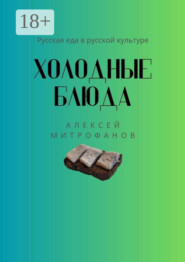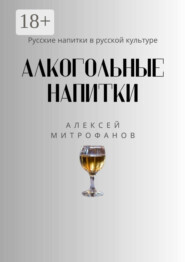По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Быт русской провинции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но без подобных церемоний, вероятно, было невозможно существование такого замечательного типажа, как земский деятель, несущий просвещение в темные, невежественные массы.
Кстати, многие просветительские мероприятия устраивались прямо здесь, в домах земских собраний. В частности, «Смоленский вестник» сообщал в 1909 году: «Интересная лекция. Завтра в зале губернской земской управы инженером-механиком Аронтрихер прочитана будет интересная лекция об успехах воздухоплавания.
Лекция будет сопровождаться туманными картинами. Содержание лекции: 1) история развития воздухоплавания, 2) принципы полета тел легче воздуха, 3) воздушные шары, 4) первые управляемые шары, 5) современные управляемые аэростаты и их различные системы, 6) принципы полета тел тяжелее воздуха, 7) полет птиц, 8) сравнение человека и птицы, 9) историческое развитие системы тяжелее воздуха, 10) последние успехи авиации (Состязание в Реймсе),11) Аэропланы. Сравнение аэропланов и аэростатов и их значение в жизни человечества. Начало ровно в 6 час. вечера».
А в муромской земской управе проходили Публичные чтения религиозного и нравственного воспитания. Газета «Современные известия» писала об этом мероприятии: «Отрадное явление составляют в Муроме народные чтения под руководством умнейшего соборного протоиерея Орфанова – местного археолога. Отец протоиерей Орфанов настолько заинтересовал публику чтениями, что на них менее 200 человек никогда не бывает, а иногда приход простой публики доходит до 500 человек и более. Чтения расположены так: сначала читается какая-либо или божественная или духовно-полезная статья, а потом певчие поют какой-либо стих. Бывает, но весьма редко, что и полковая музыка дает свой труд при чтениях, что весьма разнообразит чтения и приносит пользу и удовольствие муромским жителям низшего класса…»
Организатор же чтений, поручик И. Бурцев (он же председатель Земской управы и предводитель муромского дворянства) заявлял, что «чтения эти бывают весьма многолюдны; пол же в зале не представляет достаточного обеспечения безопасности вследствие излишней тяжести, он находит необходимым доложить об этом земскому собранию и тем сложить с себя ответственность в случае какого-либо несчастья.»
Народ же умел по достоинству оценить эту заботу. В частности, крестьяне Судогодского уезда Владимирской области обратились в земство с необычной просьбой: «На примере войны с Японией мы убедились, какое преимущество имеет обученный японец перед нашим темным солдатом-мужиком. Убеждены также, что обученный человек является лучшим „народным представителем“, при свете учения в гору пойдет и крестьянское благосостояние. Обращаемся к земству как к единственному учреждению, которое приходит на помощь мужику в деле образования: выстройте в нашей деревне школу, Бога ради, и выведите нас из тьмы невежества. Для школы даем землю и просим устроить на ней опытный огород и сад с пчельником».
Земская школьная комиссия, конечно, умилилась. И постановила: отказать. «Ввиду того, что в 2,5 верстах отстраивается школа в д. Овцино, строить еще школу не надобно».
* * *
Вообще говоря, провинциальный общественно-политический истеблишмент – явление, достойное отдельного исследования. И, по большому счету, не так важно, в какой именно должности состоит тот или иной деятель, и в каком городе он проживает. Хотя бы в силу бешеной ротации подобных граждан. Сегодня он возглавляет земство в Калуге, завтра судебную палату в Саратове, а послезавтра баллотируется во владимирскую думу. Личности же среди этих граждан случались презанятные.
Властная провинциальная итрига – вещь трагикомичная. Скролько сил брошено, сколько нервов потрачено – и ради чего? Не понять.
Вот воспоминания одного костромича: «Сегодня великий день и страшный для многоуважаемого Григория Галактионовича Набатова: сегодня выборы в Головы городские. Велико и страшно для Набатова, потому что ему ужасно хочется вновь остаться при этой должности, но сильная партия его вовсе не желает. После обедни, данной Г. Г. гласным выборным, и после присяги поехали в дом городского Общества для выбора. Предложено было прежде сделать записки, которых более оказалось на Чернова, следовательно, и предложили его первого баллотировать. Долго, очень долго он ломался, отговариваясь, но наконец согласился, и положено было за него из семидесяти одного пятьдесят семь белых шаров. Конечно, после этого бедный Г. Г. отказался баллотироваться, да и его даже никто и не просил. Но все таки в память его двенадцатилетней службы, то есть, с начала нового городского положения, постановили избрать его Почетным гражданином города Костромы и повесить его портрет в городской Думе. После поехали поздравлять в дом Василия Ивановича Чернова».
Впрочем, это – всего лишь начало истории. Продолжение же таково: «Сегодня злобою дня был в Думе вопрос об обеде в честь прежнего Городского Головы Г. Г. Набатова и назначении его звания Почетного гражданина города Костромы и о помещении его портрета в здании Городской Думы. Первый вопрос бесспорно сошел, но второй и третий повлекли за собою бурные сцены, вся Дума бедного Григория Галактионовича была рассмотрена, все его сорокадвухлетние, но более двенадцатилетние деяния были строго оценены, так что, как выразился Ширкий, гласный, ему делали в этот вечер инквизицию. После долгих прений едва ли могли удостоить его звания Почетного гражданина города Костромы, но вопрос о портрете провалился с полным фиаско…
Заседание окончилось. Вот собралась партия гласных для совета о чествовании Набатова. Вдруг Аристов обращается к отцу, говоря: «Просим вас, Михаил Николаевич, ехать завтра просить Набатова на обед»… Отец на это ответил, что ему ехать совестно».
Совестно, не совестно – а ехать надо: «Во втором часу пополудни я с отцом поехал на обед в Думу. Но только вступили в крыльцо, как Зотов, Стоюнин потащили отца ехать с ними к Набатову вторично приглашать.
Тут же говорили о скандале отца с Аристовым, будто бы многие осуждают Аристова, а я с Аристовым чтобы не сходился и не здоровался.
Приехал губернатор. Затем, после всех уж, едет юбиляр, и как только вступил он на крыльцо, музыка заиграла, и, предшествуемый Черновым, он вошел в зал. Минута была торжественная, тут уж все враги преклонились.
Обед – сошло все хорошо. Губернатор исполнил просьбу купцов, сказал очень радушное слово Набатову, ставя высоко его сорокадвухлетнее служение, речь его была покрыта громким «ура!». Аристов говорил несколько разных бессвязных речей, не доведших чуть до скандала, и очень крупного, следующим: вдруг он начинает восхвалять доблести настоящего губернатора и при этом критиковать бывших… Конечно, следовало бы Андреевскому протестовать против этого, но он смолчал. Но Негребецкий, председатель окружного суда, сказал Аристову, сидящему с ним рядом, разве за то только он восхваляет губернатора, что тот много пьет. Слышал ли это губернатор или нет, но смолчал, а я думаю, что слышал, потому это было близко, но только вдруг вскакивает Скалон, начиная против этого резко протестовать Негребецкому. Спасибо Прозоркевичу, он быстро очутился около Скалона и успел его успокоить, иначе бы вышел громадный скандал».
Такими вот «громадными скандалами» подчас и жил провинциальный политический бомонд.
Трогательным интриганом был симбирский губернатор М. Магницкий. Он настолько часто менял свои взгляды, что князь Вяземский об этом даже сочинил стихотворение:
N.N., вертлявый по природе,
Модницкий, глядя по погоде,
То ходит в красном колпаке,
То в рясах, в черном клобуке,
Когда безбожье было в моде,
Он был безбожья хвастуном,
Теперь в прихожей и в приходе
Он щеголяет ханжеством.
А литератор Владимир Панаев писал, что Магницкий время от времени даже «выходит из кареты, несмотря на грязь и холод, чтобы принять благословение бегавшего по симбирским улицам так называемого Блаженного в надежде, что об этом дойдет до князя Голицына, а через него, может быть, и до государя».
Своеобразен был самопиар и костромского чиновника средней руки, некого Аристова. Один из современников писал о нем: «Василий Васильевич Аристов, по образованию инженер, был фабричным инспектором, однако инженерными знаниями не блистал, удач на служебном поприще не имел, но принимал деятельное участие в общественной жизни. Имея небольшой деревянный дом на Смоленской улице, много лет был избираем в гласные думы. Будучи характера желчного, всегда был в оппозиции, подвергая критике на заседаниях думы деятельность членов управы. Выступал по любым вопросам. Однажды, желая укусить одного из членов управы, заявил на заседании думы, что в городе плохо освещают улицы, указав, что вчера не горели два керосиновых фонаря на таком-то перекрестке. На это соответствующий член управы реагировал заявлением, что для освещения городская управа отпускает достаточное количество керосина, а если фонари не горели, то виноваты фонарщики. Так как заявление сделано таким уважаемым гласным, то оно в проверке не нуждается, и фонарщики, виновные в этом, будут оштрафованы. Аристов метил не в фонарщиков и был очень недоволен, что не удалась его демагогия.
Для увеличения своего авторитета он садился по вечерам за письменный стол в своем доме, освещенный керосиновой лампой, причем занавески нарочито отсутствовали. Проходящие обыватели могли лицезреть сидящего Василия Васильевича, думающего о благе городских дел.
Однако его язвительный язык заставлял быть начеку, и в этом положительная роль Аристова в городских делах».
Общее место русского провинциального топ-менежмента – самодурство, взяточничество и отсутствие ума. Как уживались в них эти три качества – не ясно. Вроде бы, для того, чтобы брать взятки, нужны мозги – хотя бы для того, чтобы не попадаться. Но, вероятно, взяточничество, как и казнокрадство, было в России делом фактически неподсудным – главное не забывать делиться с высшим руководством. Вот и смеялись горожане над своими славными руководителями, а те делали вид, что ничего не замечали, лишь кажды прикладывали новую копеечку к своему уже сложившемуся капиталу.
Глупость городских чиновников сомнению не подвергалась. Вот, например, в ярославской газете под названием «Северный край» была опубликована безобидная детская сказка Ариадны Тырковой «Глупый тюлень». Кто-то из местных острословов обратил внимание на то, что Борис Штюмер – тогдашний ярославский губернатор – внешне напоминает тюленя. И все. Кличка «Глупый тюлень» накрепко прилипла к бедному губернатору. Не взирая на то, что сама Ариадна Тыркова публично призналась, что отнюдь не имела в виду губернатора в качестве прототипа своего героя (то есть, как раз писательница повела себя не слишком умно).
Но нет, как говорится, дыма без огня. И множество российских губернаторов и их ближайших подчиненных только и делало, что подтверждало тезис об умственной несостоятельности провинциального административного олимпа.
Житель того же Ярославля К. Доводчиков посвятил ему малоприятное стихотворение:
Прямо в ложе полуцарской
Виден знатный господин.
Полон спеси он боярской,
Здешний новый властелин!
Не солдат он, не приказный,
Он суров, да не умен.
Жаль, что свитой очень грязной
Постоянно окружен.
Все перечисленные, мягко говоря, давали повод.
Забавная история произошла с одним из губернаторов Смоленска, П. Трубецким по прозвищу Петух. Из Смоленска этого достойнейшего господина вместе с кличкой (так уж вышло) перевели в Орел. И уже в Орле он разругался с тамошним архиереем Крижановским по кличке Козел. Николай Лесков писал о том, что было дальше: «Душа местного дворянского общества, бессменный старшина дворянского клуба, человек очень умный и еще более – очень приятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный рассказчик и досужий шутник отставной майор А. Х. Шульц, стал олицетворением местной гласности, придумав оригинальный способ сатиры: на окне своего дома он стал представлять двух забавных кукол, олицетворявших губернатора и архиерея – красного петуха в игрушечной каске, с золочеными шпорами и бакенбардами и бородатого козла с монашеским клобуком. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как состояли дела князя с архиереем, то есть: кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите. Все знали, что это значит, и судили о ходе борьбы по тому, „как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся“. Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной».
Любопытен и симптоматичен был калужский губернатор Егор Толстой. О нем осталась вот такая малолестная характеристика: «Каждый праздник он непременно в церкви, каждый праздник у него по всему дому в каждом угле горят лампады и по всему дому носится запах деревянного масла и ладана. Разные батюшки, матушки, сборщики, странники, богомолки с просвирками не выходили у него из дома…
Неторопливость, неспешность были отличительной чертой служебной деятельности графа. Он прямо объявил, что в гражданской службе нет нужных и спешных дел, и положительно не признавал надписей на бумагах: «весьма нужное», «срочное» и т. п. Он говаривал: «А в гражданской бумажной службе какие-такие могут быть экстренности? Не все ли равно бумаге лежать в том или другом месте?»…
Закон был в полнейшем попрании… Взяточничество было сплошное, повальное. Не брал только ленивый, и первые брали чиновники особых поручений богомольного губернатора. Под шумок его акафистов и молебнов, они, бывало, как заберутся в Боровск или Сухиничи… служащие раскольничьими гнездами, так у бедных раскольников только карманы трещат по всем швам. Вообще губерния представляла завоеванную страну, отданную на разграбление завоевателям…
Граф просидел в Калуге где-то года три или четыре. Можно себе представить, какие авгиевы конюшни оставил он своим преемникам».
Впрочем, сочувствовать этим преемникам нет особой охоты. Во всяком случае, ближайшему – Петру Алексеевичу Булгакову. Здешний чиновник Н. Сахаров так описывал этого тезку первого императора России: «Это был мужчина большой, смуглый, пучеглазый, весь бритый, пародируя Петра 1-го, по Калуге ходил с увесистой палкой, при случае пуская ее в дело. Вставал вместе с курами и в шесть часов утра принимал уже с докладом чиновников… Циничен был он – феноменально… Застав в губернском правлении невообразимую медленность и массу неразрешенных дел и бумаг, накопленных в неторопливое правление своего богомольного предшественника, он прежде всего самым позорнейшим образом разругал советников, секретарей, столоначальников, приказал им являться на службу в восемь часов утра и заниматься до двух. В четыре снова являться и сидеть до полуночи, назначив кратчайший срок для приведения делопроизводства в порядок. Чтобы канцелярия сидела на своих местах и не отлынивала от дела, выбегая во двор курить, губернатор приставил к дверям военных часовых с ружьями, которые сопровождали чиновниках даже в известных экстренных случаях…
К массе ходивших по губернии разнообразных рассказов о крайнем его деспотизме, самодурстве, грубости, хроника его времени что-то не присоединяет рассказов ни о каких его мероприятиях по поводу нравственной чистоты служебного полчища. Оно по-прежнему казнокрадствовало, лихоимствовало, самоуправствовало… а при данном губернаторе, сообразно его темпераменту и системе, действовало быстрее и стремительнее».
А за Булгаковым пришел еще один Толстой, на этот раз Дмитрий: «Это был человек хотя приличный, корректный, о как администратор, личность бесцветная, бледная, не оставившая по себе никаких ярких воспоминаний… О таких деятелях хронологи обычно упоминают лишь только для полноты хронологической номенклатуры. Граф, может быть, и таил в себе какие-нибудь таланты, но как гоголевский прокурор не обнаруживал их по скромности…
Свободное время от служебной повинности старый холостяк заполнял преферансом, журфиксами, раутами, на которых, говорят, скука была смертная. Впрочем, он не чужд был литературы и что-то такое писал».
И такие перечни сменяющих друг друга личностей можно вести до бесконечность – в духе «Истории одного города». Разве что город был на самом деле не один, а сотни.
Однажды, например, ославился костромской губернатор Веретенников. Он выпустил глупейшее постановление, в соответствие с которым каждый домовладелец обязан был купить на собственные сбережения и вывесить на улицу большой яркий фонарь, на котором были бы написаны называния улицы и дома. Больше того, за счет того же самого домовладельца следовало жечь фонарь все темное время суток – следить, чтоб керосин не кончился, иначе – штраф. Для северной и небогатой Кострмы, в которой зимой темное время суток практически не прекращалось, лишних денег ни на фонари, ни на горючее не было ни у кого, а номерами домов никто и никогда не интересовался (город маленький, и так известно, кто где живет), это была мера, мягко говоря, не популярная.
Но здесь, что называется, нашла коса на камень. Один из членов костромского суда, некто Власов, отказался покупать фонарь. Его приговорили к штрафу в 50 рублей – он отказался выплачивать штраф. Самому Веретенникову уже стало неловко – он лично ездил к Власову (напоминаю: город маленький и все друг друга знают), умолял его смириться, заплатить этот несчастный штраф и, поговаривают, даже деньги предлагал, чтоб Власову на штраф не тратиться. Тот – ни в какую.
В соответствии с законом того времени назначили аукцион на власовское имущество – для уплаты штрафа. Первым лотом шла скверная пепельница. Кто-то из приятелей Власова сразу же предложил за нее необходимую сумму – все те же 50 рублей, после чего с брезгливым выражением лица вручил пепельницу хозяину – ему такая дрянь была, конечно, ни к чему.
Кстати, многие просветительские мероприятия устраивались прямо здесь, в домах земских собраний. В частности, «Смоленский вестник» сообщал в 1909 году: «Интересная лекция. Завтра в зале губернской земской управы инженером-механиком Аронтрихер прочитана будет интересная лекция об успехах воздухоплавания.
Лекция будет сопровождаться туманными картинами. Содержание лекции: 1) история развития воздухоплавания, 2) принципы полета тел легче воздуха, 3) воздушные шары, 4) первые управляемые шары, 5) современные управляемые аэростаты и их различные системы, 6) принципы полета тел тяжелее воздуха, 7) полет птиц, 8) сравнение человека и птицы, 9) историческое развитие системы тяжелее воздуха, 10) последние успехи авиации (Состязание в Реймсе),11) Аэропланы. Сравнение аэропланов и аэростатов и их значение в жизни человечества. Начало ровно в 6 час. вечера».
А в муромской земской управе проходили Публичные чтения религиозного и нравственного воспитания. Газета «Современные известия» писала об этом мероприятии: «Отрадное явление составляют в Муроме народные чтения под руководством умнейшего соборного протоиерея Орфанова – местного археолога. Отец протоиерей Орфанов настолько заинтересовал публику чтениями, что на них менее 200 человек никогда не бывает, а иногда приход простой публики доходит до 500 человек и более. Чтения расположены так: сначала читается какая-либо или божественная или духовно-полезная статья, а потом певчие поют какой-либо стих. Бывает, но весьма редко, что и полковая музыка дает свой труд при чтениях, что весьма разнообразит чтения и приносит пользу и удовольствие муромским жителям низшего класса…»
Организатор же чтений, поручик И. Бурцев (он же председатель Земской управы и предводитель муромского дворянства) заявлял, что «чтения эти бывают весьма многолюдны; пол же в зале не представляет достаточного обеспечения безопасности вследствие излишней тяжести, он находит необходимым доложить об этом земскому собранию и тем сложить с себя ответственность в случае какого-либо несчастья.»
Народ же умел по достоинству оценить эту заботу. В частности, крестьяне Судогодского уезда Владимирской области обратились в земство с необычной просьбой: «На примере войны с Японией мы убедились, какое преимущество имеет обученный японец перед нашим темным солдатом-мужиком. Убеждены также, что обученный человек является лучшим „народным представителем“, при свете учения в гору пойдет и крестьянское благосостояние. Обращаемся к земству как к единственному учреждению, которое приходит на помощь мужику в деле образования: выстройте в нашей деревне школу, Бога ради, и выведите нас из тьмы невежества. Для школы даем землю и просим устроить на ней опытный огород и сад с пчельником».
Земская школьная комиссия, конечно, умилилась. И постановила: отказать. «Ввиду того, что в 2,5 верстах отстраивается школа в д. Овцино, строить еще школу не надобно».
* * *
Вообще говоря, провинциальный общественно-политический истеблишмент – явление, достойное отдельного исследования. И, по большому счету, не так важно, в какой именно должности состоит тот или иной деятель, и в каком городе он проживает. Хотя бы в силу бешеной ротации подобных граждан. Сегодня он возглавляет земство в Калуге, завтра судебную палату в Саратове, а послезавтра баллотируется во владимирскую думу. Личности же среди этих граждан случались презанятные.
Властная провинциальная итрига – вещь трагикомичная. Скролько сил брошено, сколько нервов потрачено – и ради чего? Не понять.
Вот воспоминания одного костромича: «Сегодня великий день и страшный для многоуважаемого Григория Галактионовича Набатова: сегодня выборы в Головы городские. Велико и страшно для Набатова, потому что ему ужасно хочется вновь остаться при этой должности, но сильная партия его вовсе не желает. После обедни, данной Г. Г. гласным выборным, и после присяги поехали в дом городского Общества для выбора. Предложено было прежде сделать записки, которых более оказалось на Чернова, следовательно, и предложили его первого баллотировать. Долго, очень долго он ломался, отговариваясь, но наконец согласился, и положено было за него из семидесяти одного пятьдесят семь белых шаров. Конечно, после этого бедный Г. Г. отказался баллотироваться, да и его даже никто и не просил. Но все таки в память его двенадцатилетней службы, то есть, с начала нового городского положения, постановили избрать его Почетным гражданином города Костромы и повесить его портрет в городской Думе. После поехали поздравлять в дом Василия Ивановича Чернова».
Впрочем, это – всего лишь начало истории. Продолжение же таково: «Сегодня злобою дня был в Думе вопрос об обеде в честь прежнего Городского Головы Г. Г. Набатова и назначении его звания Почетного гражданина города Костромы и о помещении его портрета в здании Городской Думы. Первый вопрос бесспорно сошел, но второй и третий повлекли за собою бурные сцены, вся Дума бедного Григория Галактионовича была рассмотрена, все его сорокадвухлетние, но более двенадцатилетние деяния были строго оценены, так что, как выразился Ширкий, гласный, ему делали в этот вечер инквизицию. После долгих прений едва ли могли удостоить его звания Почетного гражданина города Костромы, но вопрос о портрете провалился с полным фиаско…
Заседание окончилось. Вот собралась партия гласных для совета о чествовании Набатова. Вдруг Аристов обращается к отцу, говоря: «Просим вас, Михаил Николаевич, ехать завтра просить Набатова на обед»… Отец на это ответил, что ему ехать совестно».
Совестно, не совестно – а ехать надо: «Во втором часу пополудни я с отцом поехал на обед в Думу. Но только вступили в крыльцо, как Зотов, Стоюнин потащили отца ехать с ними к Набатову вторично приглашать.
Тут же говорили о скандале отца с Аристовым, будто бы многие осуждают Аристова, а я с Аристовым чтобы не сходился и не здоровался.
Приехал губернатор. Затем, после всех уж, едет юбиляр, и как только вступил он на крыльцо, музыка заиграла, и, предшествуемый Черновым, он вошел в зал. Минута была торжественная, тут уж все враги преклонились.
Обед – сошло все хорошо. Губернатор исполнил просьбу купцов, сказал очень радушное слово Набатову, ставя высоко его сорокадвухлетнее служение, речь его была покрыта громким «ура!». Аристов говорил несколько разных бессвязных речей, не доведших чуть до скандала, и очень крупного, следующим: вдруг он начинает восхвалять доблести настоящего губернатора и при этом критиковать бывших… Конечно, следовало бы Андреевскому протестовать против этого, но он смолчал. Но Негребецкий, председатель окружного суда, сказал Аристову, сидящему с ним рядом, разве за то только он восхваляет губернатора, что тот много пьет. Слышал ли это губернатор или нет, но смолчал, а я думаю, что слышал, потому это было близко, но только вдруг вскакивает Скалон, начиная против этого резко протестовать Негребецкому. Спасибо Прозоркевичу, он быстро очутился около Скалона и успел его успокоить, иначе бы вышел громадный скандал».
Такими вот «громадными скандалами» подчас и жил провинциальный политический бомонд.
Трогательным интриганом был симбирский губернатор М. Магницкий. Он настолько часто менял свои взгляды, что князь Вяземский об этом даже сочинил стихотворение:
N.N., вертлявый по природе,
Модницкий, глядя по погоде,
То ходит в красном колпаке,
То в рясах, в черном клобуке,
Когда безбожье было в моде,
Он был безбожья хвастуном,
Теперь в прихожей и в приходе
Он щеголяет ханжеством.
А литератор Владимир Панаев писал, что Магницкий время от времени даже «выходит из кареты, несмотря на грязь и холод, чтобы принять благословение бегавшего по симбирским улицам так называемого Блаженного в надежде, что об этом дойдет до князя Голицына, а через него, может быть, и до государя».
Своеобразен был самопиар и костромского чиновника средней руки, некого Аристова. Один из современников писал о нем: «Василий Васильевич Аристов, по образованию инженер, был фабричным инспектором, однако инженерными знаниями не блистал, удач на служебном поприще не имел, но принимал деятельное участие в общественной жизни. Имея небольшой деревянный дом на Смоленской улице, много лет был избираем в гласные думы. Будучи характера желчного, всегда был в оппозиции, подвергая критике на заседаниях думы деятельность членов управы. Выступал по любым вопросам. Однажды, желая укусить одного из членов управы, заявил на заседании думы, что в городе плохо освещают улицы, указав, что вчера не горели два керосиновых фонаря на таком-то перекрестке. На это соответствующий член управы реагировал заявлением, что для освещения городская управа отпускает достаточное количество керосина, а если фонари не горели, то виноваты фонарщики. Так как заявление сделано таким уважаемым гласным, то оно в проверке не нуждается, и фонарщики, виновные в этом, будут оштрафованы. Аристов метил не в фонарщиков и был очень недоволен, что не удалась его демагогия.
Для увеличения своего авторитета он садился по вечерам за письменный стол в своем доме, освещенный керосиновой лампой, причем занавески нарочито отсутствовали. Проходящие обыватели могли лицезреть сидящего Василия Васильевича, думающего о благе городских дел.
Однако его язвительный язык заставлял быть начеку, и в этом положительная роль Аристова в городских делах».
Общее место русского провинциального топ-менежмента – самодурство, взяточничество и отсутствие ума. Как уживались в них эти три качества – не ясно. Вроде бы, для того, чтобы брать взятки, нужны мозги – хотя бы для того, чтобы не попадаться. Но, вероятно, взяточничество, как и казнокрадство, было в России делом фактически неподсудным – главное не забывать делиться с высшим руководством. Вот и смеялись горожане над своими славными руководителями, а те делали вид, что ничего не замечали, лишь кажды прикладывали новую копеечку к своему уже сложившемуся капиталу.
Глупость городских чиновников сомнению не подвергалась. Вот, например, в ярославской газете под названием «Северный край» была опубликована безобидная детская сказка Ариадны Тырковой «Глупый тюлень». Кто-то из местных острословов обратил внимание на то, что Борис Штюмер – тогдашний ярославский губернатор – внешне напоминает тюленя. И все. Кличка «Глупый тюлень» накрепко прилипла к бедному губернатору. Не взирая на то, что сама Ариадна Тыркова публично призналась, что отнюдь не имела в виду губернатора в качестве прототипа своего героя (то есть, как раз писательница повела себя не слишком умно).
Но нет, как говорится, дыма без огня. И множество российских губернаторов и их ближайших подчиненных только и делало, что подтверждало тезис об умственной несостоятельности провинциального административного олимпа.
Житель того же Ярославля К. Доводчиков посвятил ему малоприятное стихотворение:
Прямо в ложе полуцарской
Виден знатный господин.
Полон спеси он боярской,
Здешний новый властелин!
Не солдат он, не приказный,
Он суров, да не умен.
Жаль, что свитой очень грязной
Постоянно окружен.
Все перечисленные, мягко говоря, давали повод.
Забавная история произошла с одним из губернаторов Смоленска, П. Трубецким по прозвищу Петух. Из Смоленска этого достойнейшего господина вместе с кличкой (так уж вышло) перевели в Орел. И уже в Орле он разругался с тамошним архиереем Крижановским по кличке Козел. Николай Лесков писал о том, что было дальше: «Душа местного дворянского общества, бессменный старшина дворянского клуба, человек очень умный и еще более – очень приятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный рассказчик и досужий шутник отставной майор А. Х. Шульц, стал олицетворением местной гласности, придумав оригинальный способ сатиры: на окне своего дома он стал представлять двух забавных кукол, олицетворявших губернатора и архиерея – красного петуха в игрушечной каске, с золочеными шпорами и бакенбардами и бородатого козла с монашеским клобуком. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как состояли дела князя с архиереем, то есть: кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите. Все знали, что это значит, и судили о ходе борьбы по тому, „как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся“. Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной».
Любопытен и симптоматичен был калужский губернатор Егор Толстой. О нем осталась вот такая малолестная характеристика: «Каждый праздник он непременно в церкви, каждый праздник у него по всему дому в каждом угле горят лампады и по всему дому носится запах деревянного масла и ладана. Разные батюшки, матушки, сборщики, странники, богомолки с просвирками не выходили у него из дома…
Неторопливость, неспешность были отличительной чертой служебной деятельности графа. Он прямо объявил, что в гражданской службе нет нужных и спешных дел, и положительно не признавал надписей на бумагах: «весьма нужное», «срочное» и т. п. Он говаривал: «А в гражданской бумажной службе какие-такие могут быть экстренности? Не все ли равно бумаге лежать в том или другом месте?»…
Закон был в полнейшем попрании… Взяточничество было сплошное, повальное. Не брал только ленивый, и первые брали чиновники особых поручений богомольного губернатора. Под шумок его акафистов и молебнов, они, бывало, как заберутся в Боровск или Сухиничи… служащие раскольничьими гнездами, так у бедных раскольников только карманы трещат по всем швам. Вообще губерния представляла завоеванную страну, отданную на разграбление завоевателям…
Граф просидел в Калуге где-то года три или четыре. Можно себе представить, какие авгиевы конюшни оставил он своим преемникам».
Впрочем, сочувствовать этим преемникам нет особой охоты. Во всяком случае, ближайшему – Петру Алексеевичу Булгакову. Здешний чиновник Н. Сахаров так описывал этого тезку первого императора России: «Это был мужчина большой, смуглый, пучеглазый, весь бритый, пародируя Петра 1-го, по Калуге ходил с увесистой палкой, при случае пуская ее в дело. Вставал вместе с курами и в шесть часов утра принимал уже с докладом чиновников… Циничен был он – феноменально… Застав в губернском правлении невообразимую медленность и массу неразрешенных дел и бумаг, накопленных в неторопливое правление своего богомольного предшественника, он прежде всего самым позорнейшим образом разругал советников, секретарей, столоначальников, приказал им являться на службу в восемь часов утра и заниматься до двух. В четыре снова являться и сидеть до полуночи, назначив кратчайший срок для приведения делопроизводства в порядок. Чтобы канцелярия сидела на своих местах и не отлынивала от дела, выбегая во двор курить, губернатор приставил к дверям военных часовых с ружьями, которые сопровождали чиновниках даже в известных экстренных случаях…
К массе ходивших по губернии разнообразных рассказов о крайнем его деспотизме, самодурстве, грубости, хроника его времени что-то не присоединяет рассказов ни о каких его мероприятиях по поводу нравственной чистоты служебного полчища. Оно по-прежнему казнокрадствовало, лихоимствовало, самоуправствовало… а при данном губернаторе, сообразно его темпераменту и системе, действовало быстрее и стремительнее».
А за Булгаковым пришел еще один Толстой, на этот раз Дмитрий: «Это был человек хотя приличный, корректный, о как администратор, личность бесцветная, бледная, не оставившая по себе никаких ярких воспоминаний… О таких деятелях хронологи обычно упоминают лишь только для полноты хронологической номенклатуры. Граф, может быть, и таил в себе какие-нибудь таланты, но как гоголевский прокурор не обнаруживал их по скромности…
Свободное время от служебной повинности старый холостяк заполнял преферансом, журфиксами, раутами, на которых, говорят, скука была смертная. Впрочем, он не чужд был литературы и что-то такое писал».
И такие перечни сменяющих друг друга личностей можно вести до бесконечность – в духе «Истории одного города». Разве что город был на самом деле не один, а сотни.
Однажды, например, ославился костромской губернатор Веретенников. Он выпустил глупейшее постановление, в соответствие с которым каждый домовладелец обязан был купить на собственные сбережения и вывесить на улицу большой яркий фонарь, на котором были бы написаны называния улицы и дома. Больше того, за счет того же самого домовладельца следовало жечь фонарь все темное время суток – следить, чтоб керосин не кончился, иначе – штраф. Для северной и небогатой Кострмы, в которой зимой темное время суток практически не прекращалось, лишних денег ни на фонари, ни на горючее не было ни у кого, а номерами домов никто и никогда не интересовался (город маленький, и так известно, кто где живет), это была мера, мягко говоря, не популярная.
Но здесь, что называется, нашла коса на камень. Один из членов костромского суда, некто Власов, отказался покупать фонарь. Его приговорили к штрафу в 50 рублей – он отказался выплачивать штраф. Самому Веретенникову уже стало неловко – он лично ездил к Власову (напоминаю: город маленький и все друг друга знают), умолял его смириться, заплатить этот несчастный штраф и, поговаривают, даже деньги предлагал, чтоб Власову на штраф не тратиться. Тот – ни в какую.
В соответствии с законом того времени назначили аукцион на власовское имущество – для уплаты штрафа. Первым лотом шла скверная пепельница. Кто-то из приятелей Власова сразу же предложил за нее необходимую сумму – все те же 50 рублей, после чего с брезгливым выражением лица вручил пепельницу хозяину – ему такая дрянь была, конечно, ни к чему.