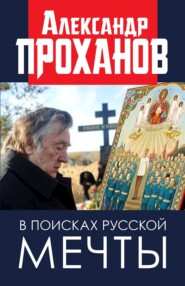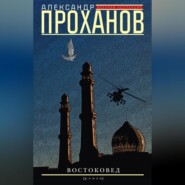По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Надпись
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну что? – по-мальчишески весело, довольный своей удачной выходкой, сказал Рудольф Саблин. – Продолжим наш вечер, Мишель?
И они вернулись в Дом литераторов.
Глава 6
На этот раз они не пошли в респектабельный дубовый зал, в котором проедали гонорары удачно издающиеся, именитые писатели, а угнездились в пестром зале, накуренном, с низким потолком, с тесными столиками и неиссякаемой очередью у буфета, где булькала водка, шлепались на прилавок мисочки с вареной картошкой и селедкой, появлялись одна за другой фарфоровые чашечки с мутным, опресненным кофе, и загнанные буфетчицы в несвежих халатах мусолили мелкие мокрые деньги. Пестрый зал был прибежищем литературной богемы, поэтических неудачников, робких, вступающих в литературу новичков, захожих дам, всегда готовых утешить непризнанного гения, выслушать порцию его неудобоваримых стихов, а когда он потеряет дар речи, увезти его, поддерживая, как санитарка, с поля поэтической брани, уложить в какую-нибудь походную койку. Если дубовый зал был верхней палубой с благородными пассажирами, то пестрый был кубриком, с голытьбой, шумной и бражной, гневливой и завистливой, наивно-доверчивой и сентиментально-слезливой. На стенах и сводах были нарисованы фрески, красовались автографы известных литераторов, топорщил усы кем-то намалеванный Дон Кихот, восточная красавица из «Шах-наме», выделяясь из прочих изображений, пучил страшные глазища, наклонял витые бараньи рога бородатый и ужасный Бафомет, вполне уместный среди нередких ссор и драк, искушений и неудержимых славословий. Здесь, у стены, под Бафометом, устроились Коробейников и Саблин, окруженные дымным горячим воздухом, в котором мелькали зыбкие тени.
– Мишель, прошу вас, сидите, мне будет приятно поухаживать за вами. – Саблин остановил Коробейникова артистическим жестом. Направился к буфету, чтобы скоро вернуться с чашечками кофе и фисташковым печеньем.
Их знакомство, случившееся здесь же, в Доме литераторов, месяц назад, увлекло Коробейникова. Саблин интересно и ярко разговаривал. Эпатировал резкими, подчас опасными суждениями. Умел очаровывать, расположить к себе. Умел выслушивать и остро, искренне реагировал на чужую яркую мысль. Принадлежал к среде, доселе неведомой Коробейникову: был внуком знаменитого героя Гражданской войны, о котором писали школьные учебники, именем которого нарекались площади и проспекты, бронзовое лицо которого мужественно взирало с постаментов. Саблин принадлежал к баловням, к золотой молодежи, для которой подвиги и заслуги дедов должны были обеспечить высшие роли в обществе, открывали двери в престижные школы и элитарные институты, способствовали быстрому карьерному росту. Однако подвиги героических дедов сменились катастрофами отцов, когда, следуя один за другим, произошли изломы общественной жизни, «революционная знать» была наполовину выкорчевана, наполовину отодвинута, а в хрущевские времена заслонена новыми явившимися честолюбцами и верноподданными любимцами власти. Саблин, окончивший Суворовское училище, где, волей Сталина, взращивалась новая советская гвардия, учили танцам и языкам, устраивались балы и конные состязания, – в хрущевские годы, после каких-то конфликтов и злоключений, был выброшен из обоймы, потерпел поражение. Теперь, полный реванша, едкой неприязни, ядовитой мизантропии, занимал какую-то пустячную должность в министерстве. Старался демонстрировать прежний лоск, который постоянно приходилось подтверждать нарочитой неординарностью взглядов, демонстративной независимостью суждений, выпадами в адрес ненавистной, обманувшей его власти. Его редкое имя Рудольф, как он намекал Коробейникову, объяснялось германофильскими настроениями в семье накануне войны, когда многие из государственной и военной элиты увлекались Третьим рейхом, и его назвали чуть ли не в честь фашистского соратника Гитлера – Рудольфа Гесса.
И вот они сидели перед чашечками кофе под рогатым изображением бога зла, и Саблин, дорожа их общением, любовно сияя серыми сверкающими глазами, говорил:
– Мишель, если бы вы знали, как я дорожу каждой нашей встречей. Всякий раз открываю в вас все новые и новые достоинства. Вы – удивительный человек. Не похожи ни на одного, с кем я общаюсь. И уж, конечно, не похожи на этих увечных, уродливых существ, именуемых по недоразумению писателями. Это худшее, что есть в нашей никчемной, дурной стране. Вы – полная им противоположность. Книга, которую вы мне подарили, – нежная, изящная, как перламутровая раковина. Ваш разрыв с этой угрюмой тупой цивилизацией, где вам предлагалось стать винтиком и за каждым вашим шагом, за каждой мыслью наблюдал мужик с пистолетом, – ваш уход в леса созвучен монашескому подвигу. Вы всем пренебрегли: оставили Москву, отчий дом, невесту, оставили свою престижную инженерию, которая сулила вам при ваших талантах быструю карьеру. Вопреки страшному давлению советской среды, ушли в леса. Это напоминает уход Толстого. Напоминает поступок императора Александра Первого, оставившего трон и ставшего старцем Федором Кузмичом. Для этого нужно мужество, нужен порыв, нужна высшая духовная цель. Это подвиг – аристократический, монашеский. На него не способно все это животное быдло!.. – Саблин в пол-оборота оглянулся на шумящий зал, в котором колыхались размытые тени, окутанные дымом, словно люди, пропитанные спиртом и больным кофеином, на глазах истлевали.
Коробейникову было неловко слушать восторженные излияния, экзальтированные признания в любви. Он еще не забыл недавний жестокий поступок Саблина, превративший именитого писателя в скрюченного жалкого зэка. Но было сладко вкушать похвалы оригинального, поражавшего воображение человека, соединявшего в себе едкий беспощадный цинизм и нежную, ищущую дружбы душу. Саблин был столь необычен, что Коробейников, общаясь с ним, исследовал его как героя будущего произведения. Запоминал его оригинальные реплики, его веселые и злые суждения. Исподволь выпытывал детали жизни. Мысленно рисовал его образ, делая с красивого, сероглазого, с гордым носом лица невидимые оттиски, помещая их в свой будущий роман.
В пестрый зал вошел известный писатель, получивший недавнюю громкую славу за книгу деревенских очерков.
Подобно страннику, он колесил по сельским проселкам, восхищая читателей описаниями русской природы, разоренных храмов и пустошей, сценами крестьянской жизни, умными и смелыми суждениями о величии народной культуры, которую подавила бездушная индустрия, оставляя за собой руины церквей, расколотые доски икон, пепелища разоренных деревень. Книга была свежа, хороша своим языком, исполнена сострадания и сочувствия к русской многострадальной деревне. Ее печатали во многих изданиях. Писатель мгновенно разбогател, купался в славе. Сейчас, на пороге зала, его простое курносое лицо выражало зоркую мнительность. Он не торопился пройти, впитывая завистливые восхищенные взгляды. Рядом с ним была молодая прелестная женщина, выше его, на тонких каблуках, с нежным золотистым лицом, рассыпанными по спине волосами. Казалось, писатель взял ее в качестве трофея и теперь привел в Дом литераторов, чтобы похвастаться добычей, продемонстрировать свою возросшую именитость, что ему вполне удалось. Из дымных углов раздались крики одобрения, пьяные аплодисменты. Снисходительно улыбаясь, невысокий, кургузый, в неловко сидящем костюме, писатель прошествовал в дубовый зал, уводя с собой полонянку, чтобы вкусно кормить ее на глазах у завистливых и восхищенных собратьев.
– Плебей, – презрительно провожал его Саблин, сжав глаза до ненавидящего узкого блеска, – мурло. Из грязи да в князи. Такие жгли помещичьи усадьбы и библиотеки, насиловали дворянских барышень с Бестужевских курсов. Это подлое плебейское начало в русском народе встретилось с местечковым еврейством, и вместе они удушили Россию в зловонье лука и чеснока, избили и расстреляли утонченную русскую аристократию. Когда Зиновьев поселился в Кремле, ему отлавливали и приводили в теремные дворцы дворянских девушек, и он устраивал оргии в опочивальне царицы. Обрызгивал своей гнилой еврейской спермой ложе московских царей. Вы рассказывали о ваших предках, Мишель, о молоканах, духоборах, которые бежали от притеснений и гнета. В вашем русском роду дышит свобода, поиск Бога. Вы, подобно своим предкам, восстали против свинства и скудоумия и ушли в леса. Теперь же вернулись в блеске своей молодой славы, не похожий на этих чванливых пигмеев. Восхищаюсь вами, Мишель!..
Коробейников понимал, что его обольщают. Ставят перед ним зеркало, в котором возникает пленительное отражение. Приглашают любоваться этим отражением, верить в то, что и сам образ таков, с чертами врожденного благородства, безукоризненно правильными линиями носа, бровей, подбородка, с глубиной и проникновенностью золотисто-карих, светящихся глаз, чувственных, чуть припухших губ, которые временами начинают дрожать от незлой и умной иронии. Обольщение могло быть искусной игрой артистичного постановщика, желающего создать увлекательный, рассчитанный на долгое время театр общения, или же чрезмерным приемом, с помощью которого хотели завоевывать симпатии полюбившегося человека. Коробейников в сладостном опьянении, в тепло-туманном кружении головы взирал на стену с изображением рогатого, котлообразного искусителя. Тайно усмехался тому, что Саблин, щедрый на медоточивые речи, является живым воплощением сказочного, прельстительного чудовища.
В пестрый зал вошел грузный, с пухлым телом человек в нескладном мешковатом костюме. На голове, над потным бледным лбом, мелко завивались черные жесткие волосы. Слегка вывороченные губы растерянно приоткрылись, словно не решались назвать чье-то имя. Сквозь толстые очки близоруко и неуверенно смотрели мягкие застенчивые глаза, выискивающие кого-то среди дымного и бражного многолюдья. Это был известный писатель, получивший старт, опубликовав в свое время юношескую студенческую повесть. Сразу же был награжден за нее Сталинской премией. Ошеломляющим и нежданным в этом присуждении было то, что отец писателя, видный деятель революции, был репрессирован Сталиным. Многие говорили, что жестокосердый вождь, любитель тонких и мучительных представлений, компенсировал этой премией сыну расстрел отца, вынудив взять золотую эмблему, окропленную кровью родителя.
Быть может, эта сыновья вина делала облик писателя столь неуверенным и непрочным. И она же, ставшая сутью его, быть может, сулила в будущем мощный творческий взрыв. Писатель напоминал большую темную птицу, нахохленную, с распушенными перьями, горбато сидящую на ветке, готовую либо взмыть в бесконечную высь, либо навеки остаться на суку среди дождей и туманов, напоминая чучело птицы.
– Гений Сталина заключался в том, что он, живя среди бесов, сумел одних натравить на других. Перебить одних руками других, а оставшихся, ослабевших в схватке, поместить в ГУЛАГ, в эту огромную клетку, которая была на деле громадным бесохранилищем. Сатанинские силы, тщательно изолированные от остального народа, поделенные на классы и виды, пронумерованные, взятые на учет, были размещены в бараках, за колючей проволокой, на огромном расстоянии от городов, чтобы бесовские чары не достигли скоплений народа. Сталиным, выпускником Духовной семинарии, была проведена огромная религиозная работа по заклятию бесов. НКВД был религиозным орденом, вступившим в схватку с сатаной, когда многие следователи были совращены своими подследственными, сами превратились в бесов, и их пришлось уничтожить. Избиения, которые практиковали следователи Лубянки на ночных допросах, были методами самообороны, защищавшими чекистов от сатанинской агрессии. Этот пухленький писателишка был вынужден сожрать собственного отца, и бес, который живет в его урчащем чреве, является его отцом. Только великий святой и мистик, коим, несомненно, является Сталин, мог запечатать одного беса в другом, сделав сына могилой отца. Хрущев, у которого вместо ступней наросли свиные копыта и на спине из лопаток выступают небольшие перепончатые крылья, раскрыл ворота концлагерей, выпустил бесов на волю. Теперь, оскудевшее сатанинское стадо опять расплодилось, и бесы снова заняли ключевые места в партии, культуре и КГБ. Этот курчавый лауреат зубочисткой выковыривает изо рта истлевшую плоть отца и готовится к мести. Вот увидите, Мишель, в скором времени мы прочитаем его ненавистническую, антисталинскую повесть…
Саблин ярко и беспощадно взирал на безобидного, застенчивого литератора, словно желал поразить его молниями. Коробейников чувствовал веселую ярость, исходящую от Саблина. Его тирады не были эпатирующим празднословием, а выражали глубинную ревность и отвращение к той плеяде революционеров, к которой принадлежал и его героический дед, оттесненный еврейской советской элитой от высших должностей в государстве. Слом и истребление этой победоносной и агрессивной элиты ставился Саблиным в величайшую заслугу Сталину. Коробейников с острым любопытством, изумляясь в себе этому художественному, неокрашенному этикой интересу, внимал оригинальному собеседнику, не испытывал к нему отторжения. Мимолетно подумал, что его, Коробейникова, дед, белый офицер, мог быть взят в плен красными под Перекопом, был зарублен дедом Саблина.
Через зал неуклюже и грузно на крепких кривых ногах прошел высокий, гордо глядящий писатель, вельможный секретарь Союза, возглавлявший толстый литературный журнал. Орденоносец, лауреат многих премий, автор многотомного романа о рабочей династии, где воспевались трудно и героически живущие поколения слесарей, добивавшихся удивительных трудовых показателей, мужавших вместе с родным заводом и городом, приобретавшим все больше достатка и уважения. Опора партии, лучшая часть народа, рабочий класс был главной темой толстого журнала, собиравшего вокруг себя литераторов, выходцев из заводской среды. Издание конкурировало с двумя другими, в одном из которых печатались писатели-деревенщики, хранители патриархальных заветов. В другом же публиковались писатели-горожане, носители тайного недовольства, тяготившиеся гнетом мертвящей идеологии, позволявшие себе намеками, полутонами протестовать против гнетущего строя. Писатель-вельможа, глядя поверх нетрезвой мишуры, брезгливо выставил нижнюю губу, поднял могучий подбородок. Торопился пройти сквозь комариную бестолковость пестрого зала, в глубину дома, где уже кто-то разглядел его появление, подобострастно бросился навстречу, торопился пожать руку.
– Хам, кухаркин сын, – кинул ему вслед Саблин, открывая в злой усмешке блестящие влажные зубы, нацелив вслед уходящему ястребиный жестокий нос. – Полагаю, если правы буддисты и существует переселение душ, то «гегемон», то бишь рабочий класс: все эти молотобойцы, стахановцы, сталевары и передовики – после смерти превратятся в кувалды, канализационные трубы, болты и костыли. Хамы поднялись из самых запретных, запертых, запечатанных глубин русской жизни и растоптали аристократию, которую Россия драгоценно и трепетно взращивала триста лет. В Гражданской войне победили евреи и хамы. Если бы не Сталин, мы бы и сейчас ели с земли, как свиньи. Сталин, религиозный и имперский человек, понимал значение иерархий. Он создавал иерархии, которым хотел вручить государство. Оттесняя вероломных евреев и скотоподобных русских хамов, взращивал элиту. Ведь я, Мишель, – не помню, говорил ли вам, – окончил Суворовское училище. Учился в блестящем, по личному приказу Сталина основанном заведении, где прежде размещался кадетский корпус. На стене нашего просторного коридора, куда выходили классные комнаты, сквозь побелку проступало дивное лицо государя императора. Начальник училища пригласил реставраторов, чтобы те расчистили позднюю побелку. Воспитателями у нас были кадровые офицеры царской армии. Нас учили танцевать мазурку, фехтовать, говорить по-французски. Из нас готовили будущий цвет армии, гвардейских офицеров, дипломатов, генерал-губернаторов. Нас всех срезал бульдозер Никиты Хрущева. Перепахал изумрудные газоны английских парков под кукурузу. Снова вернулся хам, поставил перед каждым из нас вонючее пойло…
Коробейников с наслаждением, жадно внимал. Перед ним сидел герой его будущего романа, блистательный и ужасный, сентиментальный и жестокий, великодушный и мстительный, весь в противоречиях и изломах, которые оставила на нем «эпоха взрыва». Пленяющий воображение художника своей сложностью, экстравагантностью, непредсказуемостью. Еще никем не описанный вид, выведенный жестокой селекцией среди социальных обвалов. Коробейников знал, что когда-нибудь, не теперь, а в каком-нибудь будущем времени, опишет этот сводчатый дымный зал, призрачные тени, козлобородое чудище на стене и этого артистичного, позирующего ему человека, словно желающего обнажить себя, позволить Коробейникову зарисовать и запомнить, чтобы потом оказаться в сонмище других, еще непридуманных персонажей, в еще не написанной книге.
Но внезапно среди этих увлекательных наблюдений, во время «рисования с натуры», его посетило чувство опасности. Он рисовал, но и его самого рисовали. Он вовлекал Саблина в свое волшебное творчество, но и его самого вовлекали. Острый и страстный контакт, в котором протекало их общение, делал прозрачным не только Саблина, но и его, Коробейникова. В своей прозрачности он был столь же беззащитен перед Саблиным, как и тот перед ним. И эта уязвимость на мгновение его испугала, но лишь на мгновение. Такова была природа творчества, когда художник и модель менялись местами, становились подобными, растворялись друг в друге, а иногда умирали один в другом.
– Воспоминание детства, Мишель… Крым, сороковой год, конец лета. Сухой, солнечный, благоухающий воздух. Синее море среди белых солнечных круч. На нашей даче повсюду цветы, дивно-ароматные, свежие, в стеклянных и фарфоровых вазах. Помню, мама ступает по легким сухим половицам. Папа в косоворотке пишет на столе какие-то бумаги и иногда, задумавшись, смотрит на море. Младшая сестра, совсем еще крошечная, в прозрачном солнечном платье и красных матерчатых туфельках. И вдруг к нашей даче подъезжает длинная черная машина. Какие-то военные в портупеях. В комнату по ступеням поднимается Сталин в белом, загорелый, стройный. Отошли с отцом к окну и, удерживая развевающуюся занавеску, о чем-то говорят вполголоса. Мама накрывает на стол, что Бог послал. Ставит на скатерть бокалы, бутылку с красным вином, блюдо с фруктами. Отец и Сталин сели за стол, разлили по бокалам вино, чокнулись. Сталин поманил меня. Посадил к себе на колени. Очистил большой оранжевый апельсин, аккуратно отломил от него дольку. Держал светящийся ломтик в своих узких, смуглых, красивых пальцах. Потом отдал мне. Помню чудесный вкус этой солнечной сладкой дольки. Помню смуглые пальцы Сталина в капельках сока. Помню мое восхищение, нежность, любовь. До конца дней буду помнить. Подумайте только, Мишель, это был сороковой год. Только что разгромили троцкистов. Еще не были достроены авиационные и танковые заводы. Войска вошли в Прибалтику, в Западную Украину. Очень скоро должна была случиться война, ужасные жертвы и разорения. Но в ту минуту у нас на крымской даче – улыбающийся Сталин, солнце во всех комнатах, цветы и в его руках драгоценная прозрачная долька…
Саблин мечтательно закрыл глаза. На его губах блуждала томительная сладостная улыбка, будто воспоминание, которое его посетило, доставляло ему блаженство и боль. Было из иной, начавшейся, но не имевшей продолжения жизни. Сценой из рая, куда его поманили и откуда потом жестоко изгнали.
Они оба молчали, испытывая странное совпадение переживаний и чувств, когда кажется, что жизни соединились и одновременно протекают во времени, переливаются одна в другую, слитно плывут в туманно-горячем, безымянном потоке.
– Мишель, я забыл вам сказать, сюда должна зайти моя сестра. Я назначил ей здесь свидание.
– Та, что на даче в Крыму была в прозрачном солнечном платьице и в красных матерчатых туфельках?
– Сейчас уже не в матерчатых… Да вот и она…
Коробейников оглянулся. В полукруглом проеме стояла женщина, стройная, с высокой грудью, вольно открытой, в темносинем шелковом платье. Ее гладкие золотистые волосы, расчесанные на прямой пробор, были стиснуты сзади в плотную корзину, чуть более темную от тугих заплетенных кос. Она медленно поворачивала голову на высокой белой шее, вопросительно, с едва заметным презрением осматривая бестолково гомонящий зал. Серо-голубые, золотисто-зеленые, под приподнятыми бровями глаза постоянно и странно меняли цвет. Увидев ее под округлым сводом, желая лучше рассмотреть складки синеблестящего платья, ее красивые сильные ноги на высоких каблуках, узкую талию, над которой смело и выпукло поднималась приоткрытая грудь, ее прямой тонкий нос на слегка продолговатом, в морском загаре лице, Коробейников вдруг ощутил головокружение, как от внезапно выпитого бокала вина. Глаза наполнились горячим туманом, изображение женщины вдруг расплавилось и потекло, как это бывает в солнечном мираже. На мгновение он ослеп, пережил сладкий обморок, потеряв ее из вида, чувствуя ее присутствие не зрачками, а сердцем, будто в грудь ударили и остановились прозрачные лопасти света. Видел, как в этих лопастях течет и переливается табачный дым, словно в снопе кинопроектора. Казалось, сердце его вынули из груди, несколько секунд держали отдельно, а потом поместили обратно в задохнувшуюся грудь, где оно часто, с перебоями, забилось. Те несколько секунд, что он жил без сердца, были кем-то изъяты из его жизни и перенесены в иное бытие.
– Лена!.. – позвал Саблин. – Мы здесь!..
Царственно приподнимая при ходьбе плечи, женщина подошла, остановилась близко от столика. Коробейников вставал ей навстречу на ослабевших ногах, ведя глазами по ее шелковым синим складкам, полуоткрытой загорелой груди, по высокой дышащей шее, помещая лицо напротив ее восхитительного, чуть насмешливого, прямо и ярко глядящего лица.
– Познакомьтесь, – оживленно возгласил Саблин, приобняв сестру за талию. – Это Мишель, о котором я тебе столько и восхищенно рассказывал… А это Елена Солим, в девичестве Саблина. – Он сильнее потянул к себе сестру, и она, сопротивляясь, подалась и прижалась к брату бедром.
Не понимая, что это было, чем была его слабость и обморочность, откуда излетели прозрачные, аметистовые лопасти света, ударившие в грудь, Коробейников смотрел на женщину, немо и растерянно улыбался, забыв пожать ее протянутую руку, с опущенными, как для поцелуя, пальцами.
– Я принесла тебе хорошую новость, – обратилась она к Саблину (голос ее был глубокий, с волнующими грудными переливами, которые, как показалось Коробейникову, были предназначены для него). – Марк поговорил с этим чиновником из министерства. Ты можешь ему позвонить завтра утром, и он тебя тотчас примет.
– Твой муж, неполный тезка Марка Аврелия, хотя бы отчасти вознаграждает нас, Саблиных, за то, что лишил тебя этой замечательной фамилии, – чуть вычурно ответил Саблин, снова притянул к себе сестру, и та, улыбаясь, не сразу от него отстранилась.
– Перестань.
В этом негромком, интимно произнесенном «перестань», в смеющихся, полуоткрытых, недотянувшихся до ее виска губах Саблина померещилось Коробейникову что-то запретное и порочное. Головокружение его продолжалось. Женская золотистая голова была охвачена прозрачным свечением, какое бывает в кроне солнечных осенних деревьев.
– Как вы можете сидеть в такой духоте? – спросила она. – Еще чуть-чуть – и вы упадете в обморок. Мне кажется, вам обоим нужен свежий воздух.
– Ты пахнешь дождем. – Саблин приблизил к сестре свои узкие звериные ноздри. – Нас действительно здесь ничто не удерживает. Мы можем идти.
Они покинули Дом литераторов. Ступая за женщиной, глядя, как погружаются в бесшумный ковер ее высокие каблуки, как мягко и красиво колышется ее голова, Коробейников изумлялся этому бестелесному, сильному, словно удар электричества, прикосновению, зная, что ничего подобного прежде он не испытывал.
Глава 7
На улице шумно и великолепно шел дождь. Москва казалась огромным сверкающим кристаллом черного кварца, в котором переливались светофоры, плыли ртутно-белые, с глубоким отражением фары, нежно туманились белоснежные фасады, легкие, эфемерные, словно толпы испуганных насекомых, летели по тротуарам перепончатые глазированные зонтики.
– Поймай такси, – сказала брату Елена, прижимаясь к нему.
Тот, промокая, весело воздел над ней белую ладонь.
– У меня машина, – сказал Коробейников, кивая на красный среди черного блеска «москвич» под высоким оранжевым фонарем.
– Мишель тебя подвезет, он очень любезен, – улыбнулся Саблин, убирая ладонь над золотистой женской головой, словно лишал ее покровительства, передавал Коробейникову вместе с дождем, нежным отражением белого особняка, зеленым, утонувшем в черной глубине огнем светофора, – ему по пути, подбросит тебя на Сретенку.
– Мне, право, неловко, – произнесла Елена, зябко поводя высоким плечом, на котором намокал синий шелк.
Саблин легкомысленно махнул рукой. Быстро, легко стал удаляться. Кивнул издалека, посылая им обоим воздушный поцелуй, тая в дожде, исчезая среди разноцветных фонтанов, в толчее набегавших зонтиков.
– Прошу вас, – сказал Коробейников, подводя Елену к машине, открывая дверцу, пуская ее в глубину салона.
Они оказались в тесном, холодном пространстве автомобиля, окруженные стеклами, по которым струилась вода и скользил свет высокого оранжевого фонаря. Фонарь осветил складки ее шелкового платья, которое она подобрала, удобней усаживаясь, вытягивая ноги. Коробейников чувствовал волнующий, миндальный запах ее духов. Исходящее от нее тепло и дыхание, от которых стали туманиться стекла. Особняк впереди, янтарно-белый, стал пропадать, превращаясь в размытое облако. Она подняла руку, проводя длинными, гибкими пальцами по золотистым, слегка потемневшим от влаги волосам. Ощупывала на затылке тугой, плетеный пучок с гребнем. В наклоне головы открылась близкая, дышащая шея. Пугаясь этой близкой ослепительной белизны, вдыхая аромат ее духов, видя, как натянулся синий шелк на ее бедре, Коробейников обморочно потянулся, желая поцеловать эту теплую доступную белизну, испытывая неодолимое влечение, головокружение, словно кто-то властный наклонял его голову, побуждал прикоснуться губами к восхитительной, манящей, открытой для него женской шее. И, чувствуя, что проваливается в упоительную бездну, пропадает среди синего шелка, разноцветной текущей воды, близких, уложенных на затылке волос, чудом удержался на последнем краю этой пропасти. Повис на хрупкой паутинке, раскачиваясь между ампирным особняком, синим шелком, оранжевым фонарем и близким, повернувшимся к нему насмешливым женским лицом.
– Мы едем? Вы, случайно, не потеряли ключи?