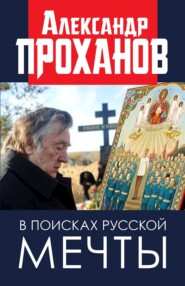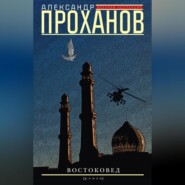По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Надпись
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здесь, в Доме литераторов, отдыхали после долгого дня, проведенного за письменным столом. Встречались за ужином с редактором или критиком, обставляя умной комплиментарной рецензией острую рукопись или выпущенную книгу. Завязывали необязательные легкие связи с женщинами, которые курили тонкие сладкие сигареты и сладко напевали в ухо художника медовую ложь о его неповторимости и одаренности. Здесь кичились новым романом или поэмой, узнавая по мимолетным замечаниям доброжелателей и завистников свое новое место в литературной иерархии. Здесь велись запретные разговоры, звучали свободолюбивые речи, невозможные ни в одном другом месте Москвы, и среди говорливых писателей легко и прозрачно, как тени, сновали информаторы КГБ.
Коробейникову обещали найти машинистку, которой он бы хотел передать часть завершенной рукописи. Он поднялся на антресоли, где помещались комнатушки и кабинетики для персонала и куда знакомая дама-администратор, пышная и красивая, с круглыми полуголыми шарами грудей, напоминавшая царицу Елизавету Петровну, приглашала его заглянуть, обещая помочь с машинисткой. Здесь царил полумрак, пахло ветхим паркетом, под ногами бесшумно стелились ковры. Он ткнулся в одну, другую запертую дверь. Третья, плохо замкнутая, легко отворилась, и он, оказавшись на мгновение в каштаново-золотистых сумерках, обжегся глазами о зрелище. Похожая на Елизавету Петровну дама стояла нагнувшись. Из ее расстегнутой блузки изливались две огромных свободных груди. Лунно круглились белоснежные пышные ягодицы. На обнаженном бедре узорно серебрилось кружево черного чулка. Мужчина, полураздетый, жадно обнимал ее сзади. Обернулся на вошедшего Коробейникова безумными бельмами, жарко дыша оттопыренными бычьими губами. Коробейников отпрянул, захлопнул дверь. Остывал от ожога. Зрелище не шокировало, не возмутило его. Дом литераторов был ковчегом, плывущим среди потопа множество долгих лет. Спасавшиеся на нем пары совокуплялись, воспроизводя себя в поколениях, чтобы счастливцам, достигшим земли, было возможно продлить свой род.
Через пестрый, украшенный разноцветными кляксами зал, сквозь табачные облака, ровный, как в бане, гул, звяканье стаканов, множество разгоряченных и пьяных лиц Коробейников направился в дубовый зал ресторана, где у него намечалась встреча. Проходя мимо банкетного зальца, увидел, как оттуда вылетала с подносом разгоряченная красавица официантка, похоже, подшофе, улыбаясь румяными устами какой-то летящей ей вслед шутке. В приоткрытую дверь мелькнул уставленный яствами стол. Дымились мясные блюда, кипами распушилась зелень, блестели винные и водочные бутылки. За этим щедрым столом вольно и счастливо восседали баловни литературы, звезды национальной поэзии. Широкоскулый, в мелких оспинах, кудрявый калмык. Благодушный, с носом-баклажаном и глазками-сливами, аварец. Смуглый, как кожаное седло, с колючими усиками, башкир. Маленький лысоватый балкарец, похожий на добродушного розоватого лягушонка. Все лауреаты Государственных премий, гуляки, сластолюбцы, имевшие каждый своего русского переводчика, создававшего из их нерифмованных фольклорных речений лирические шедевры. Этот мелькнувший стол напоминал нарядную вывеску на стене трактира. Коробейников усмехнулся этой нарисованной на картоне, в сочных подмалевках литературе.
И странно, отвлеченно подумал: этот дом, состоящий из множества помещений, этажей, закоулков, в лабиринтах, переходах и лестницах, воспроизводил модель мира, где в одно и то же время, разделенное тонкими перегородками, совершалось. Безгласно лежал в гробу пропитанный формалином покойник. Страстно и самозабвенно, источая жаркие стоны, любили друг друга мужчина и женщина. Дрались среди зловонного кафеля отвергнутые человечеством гении. Витийствовал, обманывая и льстя, тонкий и лукавый царедворец. Наслаждались среди яств и душистых вин эпикурейцы. Плакали невидимыми миру слезами правдолюбцы и страстотерпцы. И все это летело, как в космическом корабле, среди мглистых туманных звезд, и две окаменелые жрицы застыли, словно статуи на носу корабля.
Коробейников обошел чертог и оказался на пороге главного ритуального пространства, где совершались священнодейства, ради которых стремились в этот дом неофиты, дорожа драгоценной возможностью оказаться среди дубовых, коричневых панелей, резных смугло-лакированных колонн, готических стрельчатых окон и перламутровых витражей, под тяжелой хрустальной люстрой, наполненной желтоватым застывшим дымом. То был ресторанный дубовый зал, уставленный столиками, с черным жерлом камина, где когда-то размещалась масонская ложа, а теперь творились жертвоприношения из телячьей вырезки, бараньей спинки, свинячьей ножки, осетриного бока, щедро поливаемых великолепными красными и белыми винами, от которых развязывались самые молчаливые языки, загорались восхищенно самые тусклые глаза, создавались и созревали самые фантастические замыслы. Сюда, на ужин с литераторами, замышлявшими издание необычного альманаха, и был приглашен Коробейников, молодой восходящий талант, еще не примкнувший ни к одному из литературных лагерей, а потому желанный в каждом.
Общество разместилось за длинным столом у лестницы, чуть отделенное от прочей публики витой колонной, под красивым многоцветным светильником. Коробейников занял ожидавшее его место.
– Итак, когда мы все в сборе, позвольте, друзья, еще раз сформулировать нашу великолепную и, надо признаться, непростую задачу…
Глава стола и будущий редактор альманаха, критик Вольштейн, торжественно и слегка тревожно оглядывал всех фиолетовыми, выпуклыми, как у спаниеля, глазами. Ловко печатал слова шевелящимися малиновыми губами. На его лысом, чуть влажном черепе играл размытый свет фонаря, словно череп побрызгали разноцветной водой. Вьющиеся, окружавшие лысину волосы еще больше придавали ему сходство с собакой – ловцом водоплавающих птиц. Оратор был воодушевлен своим водительством, своей культурной и опасной ролью, которую решился играть в обход писательского начальства, что делало его почти диссидентом.
– Настало время, друзья, показать отечественной, да и зарубежной общественности, что наша мысль не топчется на месте, окруженная частоколом устарелых партийных догм. Что в наших рядах появились за это время талантливые и отважные мыслители, оригинальные художники, не желающие пребывать в тесных загонах и стойлах, куда их поместили надсмотрщики и конюхи современной культуры. Мы переживаем время творчества и обновления. Сборник, который мы затеваем, будет столь же значителен, как и достославные «Вехи» или «Из-под глыб». Займет свое неповторимое место в истории русской словесности и свободной общественной мысли. Давайте же выпьем за наше еще не рожденное детище!
Он поднял рюмку водки, в которой фонарь играл голубыми, алыми и золотистыми искрами. С долгожданным торжеством лидера приглашал остальных признать в нем это лидерство, обещая поделить славу поровну. Все потянулись навстречу. Одушевление, которое было на лицах, объяснялось не только высотой и значительностью замысла, но и вкусной едой, нагулянным аппетитом, запахами солений, телячьих языков, рыбных розовых лепестков. Коробейников, дорожа возможностью оказаться в столь необычном кругу, охотно выпил водку, ощутив ее литой горький холод.
– Пусть первым выскажется, поделится своим богатством с нами, грешными, наш уважаемый Олег Леонидович Медведев, – торжественно и комплиментарно возгласил Вольштейн, улыбаясь малиновыми, мокрыми от водки губами в сторону худого, с тонким аристократическим лицом писателя, чья пергаментная серебрящаяся кожа, аккуратная седая бородка, тонкие персты с кольцом вполне оправдывали его дворянское происхождение, подчеркивали перенесенное им мученичество, когда он провел в северных лагерях почти двадцать лет, добывая пропитание себе и товарищам тем, что ставил петли и капканы на зайцев, мережи на рыбу, самострелы на глухарей, – результат его юношеского, дворянского увлечения охотой, плод особого аристократического стоицизма, позволившего выжить в условиях лагерных зверств.
– Ну что я могу предложить для будущего, несомненно интересного издания, господа… – Медведев, чуть потупясь, батистовым платком отер губы, слегка испачканные заливным.
Этот деликатный опущенный взгляд, мягкое прикладывание платка к губам, полупрозрачный батист, столовая салфетка, небрежно и изящно засунутая за ворот белоснежной рубашки, старомодно-насмешливое обращение «господа» были элементами стиля, который культивировал Медведев, охотно играя роль русского дворянского писателя, сближавшую его с Буниным.
– У меня есть небольшой рассказец, как я зимой поймал в стальную петлю глухаря. Ничего особенного, просто лютый мороз, сверкающий наст, огромная заледенелая птица с приподнятой алой бровью, твердый зоб, набитый мороженой брусникой, и я на лыжах возвращаюсь с охоты, вспоминая мой дом в Петербурге на Камергерской набережной, туманную Неву, дрожащее на волнах золотое отражение иглы. И все. В рассказе ни слова, что я несу добычу в лагерную зону, где мои товарищи по бараку умирают от голода и цинги. Просто удачная охота, черная с синим отливом птица и мое воспоминание о Петербурге…
– Прекрасно, – восхитился Вольштейн, – это и есть мартиролог всех убиенных русских дворян и аристократов, расстрелянных священнослужителей, истребленных родовитых сословий. Эта прекрасная мертвая птица и есть сама убитая, замороженная Россия. Все, кто знает вас, Олег Леонидович, поймут, о чем рассказ. Это по-бунински точно и великолепно. Ну что ж, начало положено. Выпьем за это, друзья!..
Рюмки слетелись, брызнув алым, голубым, золотистым. Всем нравилось начало интересного благородного дела, сулившего литературный успех, размыкавшего тесный ошейник удушающих догм, оттеснявшего опостылевший круг верноподданных литературных вельмож.
Коробейников почувствовал нежное прикосновение хмеля, который отозвался в душе приятием всех, собравшихся за этим милым столом. Ощутил застолье как одну из бесчисленных увлекательных ситуаций, куда поместила его благосклонная судьба. Как малый проект, сконструированный для него Господом Богом, дабы он мог воспользоваться этим проектом, что-то сотворить в его пределах, пусть самое скромное и незначительное, а потом перейти в другую, тут же возникшую ситуацию, стать частью другого, сконструированного Богом проекта. Вся жизнь от рождения до смерти представилась ему вытекающими одна из другой ситуациями, бесконечными, рождающимися один за другим проектами. Так озерная вода покрывается пересекающими друг друга кругами вслед за летящей гагарой.
– Я в свою очередь могу предложить публицистику «Взгляд сквозь железо»…
Это произнес публицист Герчук, насупленный, суровый, с маленьким темным лбом, с заросшими ушами и глазами, среди которых выглядывало замшевое влажное рыльце, какое бывает у роющего крота. Публицист зарабатывал на хлеб очерками об истории заводов, о передовиках производства, но при этом тайно помогал диссидентам, собирал папиросные листочки их творений, готовя для самиздата.
– Мы должны обратиться через железный занавес к Западу. Дать им понять, что здесь осталась отрезанная от мира жизнь со своими идеями, скорбями, прозрениями, единая с жизнью всего человечества. Мы заплатили страшную цену за свою отдельность и теперь готовы платить еще большую за наше воссоединение. Я комментирую замечательные работы Андрея Дмитриевича Сахарова о конвергенции двух систем, его космогонические взгляды на общность судеб Востока и Запада…
Все сочувственно кивали, отдавая должное кропотливой работе Герчука, который сточил свое рыльце, пытаясь подкопаться под ненавистный железный занавес. Уперся в него, греб что есть силы широкими, торчащими из рукавов лопастями, буравил металл, не продвигаясь вперед, выдавливая на поверхность сырые комья плохо написанных производственных очерков.
– Мне кажется… Я, право, не знаю… В такой, как наш, сборник… Или, пускай, альманах… Моя статья о Прометеях духа… Сталинским кровавым пером были вычеркнуты из истории партии… Воспоминания о Бухарине и Троцком… Отрывки из дневников Зиновьева… Они все окружали Ленина, а потом их настигли пули… Мы зашли в тупик, потому что лишились Прометеев духа, возжегших огонь большевизма… Исправление социализма, о котором теперь так модно говорить, невозможно без правды… Правды о гениальных отцах большевизма…
Это говорил гонимый, исключенный из партии историк Ведяпин, обшарпанный, с засаленными рукавами, натертыми до блеска о столы библиотек, где он перечитывал подшивки газет, вычерпывая из них черно-белую свинцовую правду о процессах тридцатых годов. Его белки были горчичного цвета. Кончики пальцев желтели от никотина, будто их испачкали йодом. И весь он напоминал огромную, вываренную чаинку, выловленную из спитого чая.
Вольштейн ликовал, чувствуя, как интересно, многосторонне подбирается сборник, как тонко он, «ловец идеологий», складывает «атлас идей», накопившихся в обществе под спудом единомыслия. Успех казался несомненным. Он ласково и страстно озирал коллег фиолетовыми глазами ловчей собаки, словно это были кряквы, чирки, изумрудные селезни и золотистые свиязи. Протягивая над столом рюмку с водкой:
– За Прометеев духа, посылающих нам свой огонь!..
Все дружно чокнулись, подхватывая на кончики вилок лепестки семги, ломти языков и колбас.
Коробейникову было хорошо в кругу этих умудренных, прошедших тяжкие испытания людей, страдавших за свои убеждения, мучеников за веру, которые пустили его в свой круг, предполагая и в нем достоинства и добродетели. Ведущий застолья, благожелательный их предводитель, будущий редактор альманаха, совершал культурный, духовный подвиг, подбирая на огромном пустыре истории осколки раздавленных верований, черепки драгоценного сосуда, по которому проехался жестокий каток. Замуровал в асфальт обломки разноцветной вазы, где каждую сторону покрывал неповторимый драгоценный рисунок. Этот деятельный умный радетель, как археолог, проводил раскопки, извлекая из мусора истребленных эпох свидетельства былой цветущей культуры, где авангард соседствовал с божественной архаикой, славянофильство с западничеством, язычество с православием. Где загадочно, одиноко, огромно возвышался его любимый философ Федоров. Где воздушные, с прозрачными голубыми крылами, словно ангелы небесные, парили Флоренский и Сергий Булгаков, чьи труды он прочитал недавно в полуподпольных ксерокопиях. И если неутомимо трудиться, кропотливо искать, то можно собрать все рассыпанные черепки, все разрозненные осколки до последнего цветного кусочка и сложить из них дивную вазу, выставить перед изумленным миром. И он, Коробейников, будет малой крупицей в этом изумительном русском сосуде.
Слово взял украинский поэт Дергач, с вьющимися до плеч волосами, гоголевским длинным носом, с бледными хрупкими пальцами, которыми он то и дело похрустывал. Его приподнятые острые плечи облегал модный бархатный пиджак, худую шею обрамлял воротник косоворотки с шелковым украинским орнаментом.
– Мои русские братья поймут меня правильно, если я предоставлю их вниманию не собственные мои сочинения, а высокие образцы украинского фольклора. Народные песни украинского сопротивления, с которыми мои соотечественники шли в неравный бой с армией НКВД, под звездами Родины, в темных дубравах Карпат. Умирали под пытками в казематах КГБ, подобно Остапу, чьи кости хрустели на эшафоте. Гнили в концлагерях, напевая вполголоса песни борьбы и свободы. Я думаю, что настанет время, когда рыцарь Бендера станет украинским национальным героем, ему поставят памятник, его именем нарекут города и селения, и мир узнает, на какую красоту посягали палачи с синими околышками, исполненные лютой ненависти к моей земле… – На его исхудалом бледном лице появились два розовых чахоточных пятнышка. Он стиснул белые, с длинными фалангами пальцы, и раздался хруст, будто их дробили на эшафоте.
– Это будет прекрасным вкладом в наш сборник, – воодушевленно поощрял его Вольштейн, – «За нашу и вашу свободу!». Не это ли было знаменем передовых русских интеллигентов в пушкинскую эпоху?
Коробейников пьянел от рюмки к рюмке, в которых танцевали разноцветные искорки резного фонаря, и каждая драгоценно растворялась в крови. Ему представилось магическое видение в виде огромной прозрачной льдины, где недвижно застыли холодные радуги. Среди этих мертвых стерильных спектров в ледяной толще были вморожены крохотные споры, заснувшие семена, оцепенелые корешки и отростки, оставшиеся от пышной растительности, не пережившей великого оледенения. Но кончится ледниковый период, растают снега и оживут семена и споры, проснутся луковки и клубеньки, и на голых каменистых равнинах вновь зашумят великолепные леса, райские кущи, благодатные заросли, и ожившая земля покроется невиданными цветами – русская культура воскреснет во всей своей плодоносящей силе и красоте.
– А чем вы нас порадуете, Виктор Степанович?
Вольштейн с заметным почтением, но и с некоторой игривой развязностью признанного духовного лидера обратился к писателю Дубровскому, автору изящной и горестной повести о хранителе древних рукописей, знатоке средневековых манускриптов, мудреце и ученом, заточившем себя в башне из слоновой кости, откуда сволокли его жестокие следователи НКВД. Умертвили во время ночных допросов, а беспризорные рукописи с античными и арабскими текстами залила вода из открывшейся канализационной трубы. Эта небольшая, с блеском написанная повесть имела огромный успех. Печаталась в журналах и книгах, сделав никому не известного провинциала кумиром свободомыслящей интеллигенции. Дубровский, сам отбывший срок в лагере и на поселении, был худ, изможден, обтянут темной морщинистой кожей, с огромными, почти без белков, мрачно-черными глазами, которые с каждой жадно выпитой рюмкой водки наливались лиловым безумным блеском, как у осьминога, выпукло и огромно выступая из орбит, и все его длинное несуразное туловище, гибкие руки и ноги волновались, тревожно двигались, не могли найти себе место, напоминая щупальца подводного существа, колеблемого течениями.
– Так чем же вы, Виктор Степанович, украсите наш альманах? – благосклонно и чуть фамильярно обратился Вольштейн к именитому литератору, который подпадал под его пестующую, вскармливающую длань.
Дубровский изгибался за столом своим неустойчивым длинным телом, словно зацепился щупальцем за невидимый камень, а его отрывало, влекло, сносило огромным потоком. Глаза жутко выпучивались, блестели чернильной тьмой. Задыхаясь, вытягивая губы навстречу благодушному и вальяжному Вольштейну, он произнес полушепотом:
– Ты – сексот!.. Таким, как ты, на зоне вставляли перо в бок!..
– Что вы сказали? – ошеломленно переспросил Вольштейн.
– Ты – гэбист!.. Нас собрал, чтобы сдать!.. Знаю твою тайну!.. Иуда!..
– Ну это шутка, я понимаю… Вы пострадали… Ваша мнительность… Мы тоже страдали… И чтобы не повторились репрессии… – Вольштейн умоляюще, взывая о помощи, оглядывал других участников застолья, и, когда его панический взгляд скользнул по глазам Коробейникова, тот обнаружил в них панику и беспомощный, тайный страх привыкшей к побоям собаки. – Мы все, здесь собравшиеся, – ваши друзья…
Однако неожиданно тонко и истерично воскликнул историк Видяпин, воскрешавший из небытия «Прометеев дух»:
– Они покончили с Пражской весной, а теперь подбираются к нам, детям «оттепели»!.. Вы – провокатор, Азеф!.. Ну, зовите, зовите своих чекистов!.. – Он ткнул в Вольштейна заостренный, желтый от никотина палец.
Проходивший мимо официант удивленно на него оглянулся.
– Но ведь и вы, любезный, выступаете с провокационной идеей, – поджав губы, с дворянской брезгливостью произнес писатель Медведев, слегка отклоняясь от Видяпина, как от прокаженного. – Вы предлагаете воскресить дух палачей, которые залили Россию кровью. Неужели предполагаете, что я могу печатать мои произведения рядом с апологетикой Троцкого и Зиновьева? Мы, сторонники Белой Православной Империи, считали и по-прежнему считаем вас палачами. Бог кровавой десницей другого палача, Сталина, покарал вас, и это – Божье возмездие за поруганную святую Империю!..
– Хай будэ проклята твоя импэрия, била чи червона!.. Чи москаль, чи жид – единэ зло!.. – страшно хрустнул пальцами украинский поэт Дергач, ненавидяще взирая на Медведева и Видяпина. – Ваш Кремль стоит на украинских костях!.. Для украинцев вы все – палачи!.. Недаром в нашей песне поется: «Дэ побачив кацапуру, там и риж…»
Он страшно разволновался, ломал пальцы, хрустевшие, как сухие макароны. Его чахоточные пунцовые пятнышки пламенели на скулах, как два ожога. Под цветочным орнаментом косоворотки жутко ходил захлебывающийся кадык.
– Друзья мои… – старался вклиниться в спор писатель Герчук, отрицавший железный занавес. – Это вековечный русский конфликт!.. Крайность взглядов!.. Только либеральный подход… Только идея свободы примирит непримиримое… Как сказал академик Сахаров, Запад подарит миру свободу, а Россия – коллективизм… Это и есть конвергенция!..
Он топорщил густую шерстку, из которой выглядывал влажный нос землеройки, двигал плечами в тесном пиджаке, словно хотел протиснуться в самую гущу спора, но его не пускали, выталкивали.
– Товарищи, я вас умоляю!.. – взывал к ним Вольштейн.
Его не слушали, кричали все разом. Резной фонарь поливал их сверху разноцветным прозрачным сиропом.
Оглушенный их неистовыми воплями, их ненавидящими обвинениями, Коробейников вдруг ясно подумал: в ледяную глыбу с прозрачными спектрами были вморожены крохотные бактерии, микроскопические вирусы, оставшиеся от былых эпидемий. Но стоит растаять льду, расплавиться льдине, как вирусы оживут, эпидемии хлынут в жизнь. Отравят своими жгучими ядами беззащитное, не имеющее прививок население, и оно начнет вымирать от жутких полузабытых болезней. Все былые ссоры и распри, все неутоленные мечты и учения вырвутся на свободу, овладеют людскими умами, и страна сотрясется от невиданных мятежей, расколется на обломки, которые станут сталкиваться, скрежетать и дробиться. И там, где когда-то вращалось цветущее небесное тело, останется множество мелких камней, космической пыли и грязи. Все, что звалось великой русской историей, прольется метеорным дождем, сгорая бесследно в атмосфере других планет.