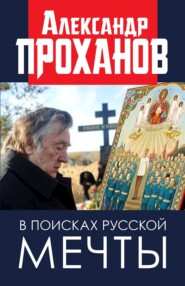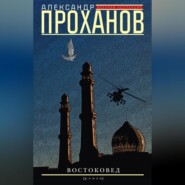По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Надпись
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Помнишь, как мы с тобой забирались под турецкое покрывало и ты мне читала стихи Огнивцева… Боже мой, как будто вчера…
Коробейников и в этом усматривал таинственный обряд дарения, ритуал принесения священных даров, коим пользовались люди для умягчения сердец, искупления грехов и провинностей. Так поступали волхвы, и послы, и блудные дети, возвращаясь в покинутую обитель, и дарители «шуб со своего плеча», передавая с подношениями свои помыслы о добре и мире. Вручали с дарами часть своего бытия, уповая на благодать и любовь. Тася одаривала вновь обретенных родственников дорогими покровами, словно окружала их своей нежностью, винилась перед ними, уповала на их милосердие.
– Миша, – обратилась она к Коробейникову торжественно, с трогательно дрожащим голосом, – твоя мама, моя любимая Таня, писала мне о тебе. О твоем творчестве, о твоей книге, которую я мечтаю прочесть. О том, что ты много путешествуешь по Сибири и по нашему русскому Северу. Я долго думала, что бы тебе подарить. Ходила по магазинам и наконец остановилась на этом. Надеюсь, тебе будет тепло и комфортно.
На вытянутых руках она подала ему бежевый джемпер из тончайшей шерсти, легкий, элегантный, с красивым стрельчатым вырезом и маленьким нарядным ярлычком, где красовалась изящная аббревиатура. Коробейников вспыхнул от удовольствия, принимая подарок. Вдыхал исходящее от джемпера благоухание, запах иной жизни, иной эстетики и благополучия, которые отсутствовали здесь, волновали своим несходством и совершенством.
– А это твоей милой жене Валентине. Таня радуется вашему союзу, и я очень, очень хочу с ней познакомиться.
Она освободила от упаковки кожаную дамскую сумочку с прелестным тисненым ремешком, узорным замком и множеством вкусно пахнущих отделений, куда она сама с любопытством, по-женски, заглядывала, гладила внутренность сумочки большими белыми пальцами, на которых красовалось бирюзовое в серебряной оправе кольцо.
– Ну а это твоим замечательным детям, Настеньке и Васеньке. – Тася выложила на кровать поверх пушистого покрывала ярко-голубое платьице с изумительным красным цветком и нарядный комбинезончик с пряжечками, молниями, кармашками, украшенный блестящей эмблемой с хвостатым кенгуру. – Уж я старалась купить на вырост. Очень волнуюсь, угодила ли…
Коробейников поцеловал щедрую заморскую тетушку, испытывая к ней благодарность, радуясь приобретениям. Тася, исполнив обряд подношения, удовлетворенная, сияла васильковыми глазами, позволяя родне еще и еще раз осматривать и ощупывать ее подношения.
– Ну что же мы с дороги тебя не кормим!.. К столу, к столу!.. – разохалась мать, и они с тетей Верой принялись расставлять тарелки, раскладывать фамильные серебряные ложки с монограммами, резную деревянную хлебницу с пшеничным снопом, уцелевшую от стародавних застолий.
Коробейников открыл бутылку красного грузинского вина. Помог бабушке пересесть из низенького кресла на высокий старинный стул. Принес и водрузил на подставку горячую кастрюлю с молоканской лапшой. Все расселись, и, когда Коробейников разлил вино, мать взялась за хрупкую ножку бокала. Не встала, а лишь потянулась вверх своим похорошевшим, помолодевшим лицом:
– Наша любимая, милая Тася… Мы приветствуем тебя в нашем доме и не верим глазам своим. Случилось чудо, о котором мы не смели мечтать. Ты исчезла на долгие десятилетия, и мы не знали, что с тобой сталось, жива ты или нет, но думали о тебе постоянно и тайно надеялись, что эта встреча возможна. Очень больно, что не дождалась тебя твоя мама – наша любимая тетя Маня, и тетя Катя, и дядя Коля, дядя Миша, дядя Петя. Все они тебя любили и мечтали увидеть. Но мы, оставшиеся в живых, выскажем тебе чувства, что они не успели. Ты вернулась в свой дом, в свою семью. Мы хотим, чтобы ты почувствовала тепло, любовь после стольких выпавших тебе испытаний. Знай, что мы тебя бесконечно любим… За тебя, дорогая сестра!
Тася поднялась, подходила по очереди ко всем сидящим, чокалась, и по лицу ее катились обильные слезы.
Потом они ели горячую душистую молоканскую лапшу и говорили о Тифлисе, о семейных праздниках, как чудесно готовила лапшу баба Груня: вешала на спинки стульев тонко раскатанное, нежно-желтое тесто, и они, девочки, тайно отщипывали сладкие лепестки и лакомились, убегая в сад. Мать разложила по тарелкам толстые молоканские пироги с капустой, и Тася, ссылаясь на диету, отказалась было от второго куска, но потом не удержалась и с наслаждением ела, щедро намазывая сливочным тающим маслом чудесную еду своего детства. И это тоже казалось Коробейникову действом, через которое они сближались, вновь сочетались в единую семью, воскрешали прошлое, в нем приобщаясь к исчезнувшему роду.
После чая с яблочным пирогом они отдыхали, все трое усевшись на кровать, набросив на себя необъятное австралийское покрывало. Коробейников приблизил к ним бабушкино креслице, и бабушка блаженствовала, видя, как близко, почти касаясь, светлеют их немолодые лица с фамильным сходством ртов, носов, подбородков.
– Ну как же ты жила эти годы? – задала мать вопрос, витавший в воздухе все время, покуда длился обряд сближения, после которого стало возможным обратиться с этим пугающим, роковым и неизбежным вопросом. – Что было после того, как ты уехала в Лондон?
– Танечка, дорогая, после этого случилась вся моя остальная жизнь длиною в полвека и краткая, как день единый, – ответила Тася, печально и беззащитно сжав губы, словно мыслью пробежала по жизни взад и вперед, по радостям и несчастьям, и эти воспоминания звучали в ней, как черно-белые клавиши рояля. – Вы помните, что я была направлена на стажировку совершенствовать мой английский язык после неудачного романа с фон Штаубе. Я с радостью уехала в Лондон, предавалась учению, стараясь забыться. В Лондоне я была совершенно одна, но у меня был адрес. Если помните, в Тифлисе, когда в городе стояли войска Антанты, к нам в дом приходил английский солдат Джефри Лойд, такой белобрысый, веснушчатый. Баба Груня его привечала, кормила, и он, тоскуя на чужбине по дому, так любил бывать в нашем обществе. В Лондоне я нашла его. Он ответил добром на добро. Повел меня в баптистское собрание, познакомил с удивительными людьми. Я слушала лекции проповедника Фетлера и уверовала. Религия стала для меня второй родиной, и, когда срок стажировки окончился, я самовольно решила продлить пребывание в Лондоне…
Коробейникову казалось, что эти слова звучат в прозрачном, расплавленно-стеклянном воздухе, какой струится над раскаленным асфальтом, рождая загадочные миражи, когда одно и то же видение присутствует в разных слоях, и неясно, где явь, а где ее отражение. В одном и том же времени присутствовал Лондон, чопорно-серая башня парламента с кругом больших часов, ажурная готика Вестминстерского аббатства, пахнущий свежим сеном необъятный зеленый газон Гайд-парка, по которому быстро идет прелестная русская девушка в нарядной блузке и шляпке, и встречный велосипедист радостно ей улыбается, оглядывается на нее, уходящую. В то же время в сумрачной, тревожной Москве ночью был арестован ее дядя Петя. Поднят с постели. Одевался под взглядом суровых чекистов. Спускался по лестнице под звяканье тяжелых винтовок. Скрывался в коробе тюремого грузовика. Катил по пустому городу в огромный дом на Лубянке, где жутко и жарко светились ночные окна.
– Я поступила на баптистские курсы, где готовили миссионеров для поездки в разные отсталые страны, к дикарям, чтобы проповедовать Слово Божье, открыть язычникам свет Божественного Писания. Нас учили оказывать первую медицинскую помощь, швейному искусству, умению водить машину. Я решила посвятить себя служению людям, отказаться от мирских забот и целиком предать себя Богу…
Коробейникову представлялся чистый, с белеными стенами молитвенный дом, дубовые лавки с партами, за которыми сидит и внимает усердная паства, слушая дородного, басовитого проповедника, чей голос сочными руладами возносится к гулким сводам, апостольски наставляя слушателей любить ближнего, как самого себя, любить Великого Бога, который сотворил весь мир. Тася, в скромном платке, в длинном чопорном платье, восторженно слушает, желая служить Божественному просветлению заблудших людей, любя их всех, надеясь пробудить в них огонь живой веры. А в это же время сестра ее Вера, молодой самоотверженный доктор, работает на Урале, где возводятся домны Магнитки, огромные поднебесные башни, окруженные кружевом деревянных лесов. Кипящие толпы рабочих, подводы лошадей и полуторки, красные транспаранты и флаги. Вера в новенькой двухэтажной больнице, обращенной окнами на громадную стройку, ощущает себя членом всенародной артели, на равных с монтажниками, кузнецами и сварщиками, с русскими, хохлами, мордвой. К вечеру совлекает с себя белоснежный медицинский халат, повязывает кумачовую косынку, отправляется в клуб смотреть кинокомедию, в гогот, хохот и свист. Там же, в клубе, она была арестована, увезена на допрос, длившийся двадцать лет.
– Моя первая миссионерская поездка была в Нигерию, на несколько лет. Миссия размещалась недалеко от Ибадана, почти в джунглях, в небольшом деревянном доме, где был молельный зал, медицинский пункт и комнаты для персонала. С утра я садилась за руль «форда», часто одна, и ездила по окрестным селениям. Заходила в хижины, проповедовала Слово Божье. Черные мужчины и женщины слушали меня вежливо, молча, а потом исполняли свои дикие африканские танцы, поклонялись деревянным идолам и расходились. Я ездила к ним недели, месяцы. Попадала в страшные ливни, утопала в раскисших дорогах, ночевала в ужасных джунглях. Молила: «Господи, просвети их!.. Дай им вкусить хлеба духовного!..» И какова же была мне награда, когда через несколько месяцев неустанных проповедей, к зданию миссии пришли из леса идолопоклонники. Сложили к порогу своих идолов, и мы вместе под огромным солнечным деревом молились Господу. Пели хором мой любимый псалом: «Боже, ты светишь во тьме, и тебя узрит слепец…»
Коробейников чувствовал, как обморочно расслаивается стеклянное время, и в одном из текущих слоев, на красноватой африканской земле, под огромным изумрудным деревом стоит деревянное строение с крестом, укрылся под навесом обшарпанный «форд», в горячей траве клубится ворох сверкающих бабочек. Тася опустилась на колени, окруженная полуголыми дикарями, вдохновенно поет псалом, и по ее счастливому лицу бегут слезы восторга и благодарности. В другом стеклянно-струящемся времени ее двоюродная сестра Таня, молодой архитектор, проектирует новый город вокруг Днепрогэса. Возводит серо-стальные конструктивистские здания, монумент энергетикам, и вдали, среди сияющих вод, драгоценная, словно кристалл, сверкает прекрасная гидростанция. Вернулась после рабочего дня в общежитие, раскрыла письмо – арестованы дядя Коля и тетя Катя, тоскливые вопли родни.
– Моя вторая миссионерская поездка была в Полинезию, на острова, где когда-то жил Миклухо-Маклай, а позже обосновался Гоген. Огромный, душистый океан, то солнечно-лазурный и нежный, то черно-кипящий и грозный. Рядом с миссией высились пальмы с кокосами, на деревьях верещали и хлопали крыльями изумрудно-алые носатые птицы. Я проповедовала Евангелие, повторяя подвиг апостолов, разнося в самые дальние уголки благую Христову весть. Помню, как меня вызвали в стойбище туземцев, недалеко от побережья. Там рожала женщина, мучилась, не могла разродиться. Я помогла ей, приняла ребенка, обрезала пуповину. Роженица, едва придя в себя, подхватила младенца, пошла на берег океана, усыпанный белым горячим песком. Вываляла в песке сначала ребенка, а потом себя, чтобы целебный раскаленный песок исключил заражение. Помню, как они лежали на берегу, словно в сверкающем сахаре, только ребенок открывал свой маленький красный зев. Я славила Господа за то, что есть и моя доля в рождении этого чудного младенца…
Коробейников испытывал странное головокружение, как если бы его жизнь протекала одновременно в двух несопоставимых измерениях, в которых существовали два разных пространства, тянулись два разных времени. Эти голубые лагуны с солнечным белоснежным песком, на которых нежились смугло-фиолетовые, похожие на шелковистых животных женщины, играя перламутровыми раковинами. Тася в матерчатых белых туфлях шла по песку, кланяясь, улыбаясь этим ленивым грациозным красавицам. А в это время в России начиналась война, немецкие танки рвались к Москве, его, Коробейникова, отец оставил университетскую кафедру, нарядился в долгополую шинель и ушел добровольцем на фронт. Тем же месяцем дядя Петя получил освобождение из лагеря и, когда ему зачитали указ, от радости на пороге барака умер от разрыва сердца.
– Началась война, японская армия высаживалась на островах, и мы очень волновались, слушая сводки войны. За нами приплыл английский эсминец, забрал на борт сотрудников миссии и поплыл в Австралию. Океан был бурный, ужасный. Я страшно боялась, что мы повстречаемся с японским флотом, будет бой и эсминец погибнет. Ночью я вышла на палубу. Была страшная тьма. Волны перехлестывали через борт. Я встала на колени на железную мокрую палубу и взмолилась, чтобы Господь пощадил меня, избавил от ужасной смерти в пучине. Впереди, среди вихрей и волн, что-то слабо засияло, будто зажегся маяк. Я знала, что это Господь идет впереди корабля по водам и указывает путь к спасению…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: