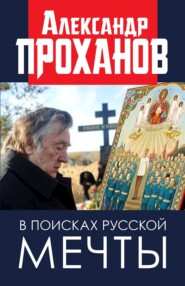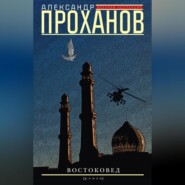По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Надпись
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Коробейников был абсолютно уверен в правильности произнесенных слов, продвигавших его в глубину коридора, вдоль каменной колоннады недвижных фигур, придавленных страшной тяжестью огромной плиты. Он был свободен и не обременен. Был художник, идущий своим загадочным вольным путем, часть которого пролегала под сводами храма, среди окаменелых государственников, утомленных вельмож и жрецов. Он пройдет сквозь храм, выйдет по другую его сторону, и путь его ляжет по лугам, по горным тропам, по площадям и бульварам мировых столиц, по побережьям мировых океанов.
– А по какому ведомству направляется в Осаку проект Шмелева? – поинтересовался Цукатов.
– Насколько я знаю, по линии Академии наук, – ответил Коробейников.
– Постараемся сделать, что в наших силах. – На пергаментном лице советника слабо процвела и померкла улыбка, будто появился и канул водяной прозрачный иероглиф.
Коробейников оглянулся. В дверях, прислонившись к косяку, стояла Елена, уже не в голубом, а в нежно-сером платье, в которое облачилась, совлекая с себя синий, увлажненный дождем шелк, укрывшись в нежно-розовой глубине спальни. Ее глаза лучисто переливались, поощряли Коробейникова, вдохновляли, к чему-то побуждали. Желали ему немедленного успеха. Подсказывали, что он должен для этого сделать. И, вдохновляясь ее прозрачно-зелеными, изумрудными глазами, он снова пережил момент ясновидения, по наитию угадывая то, что от него ожидали. Что должен он произнести в кругу этих тонких игроков, вельможных краснобаев, чтецов пергаментных свитков, переписчиков священных книг, часовщиков спасских курантов, звездочетов, поддерживающих рубиновый свет в кремлевских пентаграммах.
– Со Шмелевым мы путешествовали в Казахстане, исследуя бурное развитие городов вокруг гигантских электростанций, металлургических комбинатов, угольных разрезов, военных полигонов. Он изучал движение огромных масс населения из русского центра в целинные степи, в зоны индустриального бума. Его интересовали смешанные браки, в которых рождалась новая, как он говорил, «советская раса». Круговорот ресурсов, когда иртышская вода поила заводы Темиртау, целинный хлеб питал гарнизоны Заполярья, дешевое электричество Ермака вращало моторы на авиационных предприятиях Омска, складываясь в огромную машину пространств. Он рассуждал о техносфере, которая разумно и гармонично взаимодействует с природой, не враждуя с ней, а сливаясь в долгожданный синтез. – Коробейников видел, как испытующе смотрят на него гости, ожидая какой-нибудь неточности или ошибки, после которой могла наступить потеря к нему интереса. Изумрудные глаза Елены вдохновляли его, и он чувствовал их лучистый, слепящий блеск. – В этих рассуждениях о техносфере и природе мы оказались на крохотном аэродроме, пропустив все гражданские рейсы, потеряв всякую надежду выбраться из глухомани. На травяном поле стоял двухмоторный грузовой самолет. Молоденький пилот в форме и белоснежной рубахе шел из дощатого здания порта к своей кургузой машине. Мы попросились на борт. Он усмехнулся: «Если вас не смущают попутчики, то садитесь». Мы заглянули в фюзеляж, и что бы вы думали? На клепаном полу среди шпангоутов стояли два огромных буро-красных быка, тупые, глазастые, с острыми рогами, липкой слюной на губах. «Везем производителей в целинный совхоз. Там их ждет не дождется стадо», – сообщил жизнерадостный летчик. Запустил нас в глубь фюзеляжа, закрыл за нами округлую дверь. Мы остались с быками, с их жарким влажным дыханием, угрюмыми взглядами, кровавыми белками. Под брюхо быков были подведены кожаные попоны, прикрепленные стальными тросиками к потолку. «Это и есть синтез природы и техносферы», – воодушевленно заметил Шмелев. – Коробейников видел, как весело зажглись ястребиные глаза Ардатова, как заинтересованно потянулся к нему розовый хоботок Привакова, как распушились от удовольствия ячменные усы Бобина, и выцветшие, белесые васильки Цукатова налились едва заметной синевой. – Самолет запустил винты, разбежался, взлетел. Быки колыхнулись, в одну, в другую сторону, страшно взревели и взбунтовались. Они чувствовали, что над ними совершают небывалое, несусветное насилие. Их отрывают от родных лугов, душистых цветов, чистых ручьев и любимых коров. Их уносят в небеса и, быть может, они уже никогда не вернутся на землю, а останутся на орбите, посылая на землю свои позывные: «Му-у-у!» Они решили, что мы со Шмелевым являемся главными виновниками их несчастья, и двинулись на нас. Били копытами клепаный пол самолета. Крушили рогами алюминиевую обшивку. Ревели и пялили на нас жуткие кровавые белки. В иллюминаторе глубоко мелькали нивы, текли дымы заводов, белели далекие города, а здесь, в небесах, шла коррида. Мы отбивались от быков, кидали им в глаза лежащую на полу солому, лупили по мордам какими-то прутьями. Они наступали, а мы, словно два тореадора, уклонялись от отточенных рогов. Казалось, еще немного – и обшивка самолета лопнет. Мы с быками вывалимся наружу, полетим к земле, продолжая сражаться, пока не шлепнемся на площадь какого-нибудь города. Это было страшно и восхитительно. Перед нами были крылатые мифические быки Вавилона. Красные рогатые звери, в груди у которых вращались стальные пропеллеры. Синтез природы и техники, о котором мечтал Шмелев. Наконец мы не выдержали, стали истошно орать, бить кулаками в обшивку. Дверь в пилотскую кабину растворилась. Выглянул все тот же молоденький ироничный летчик. Понял, что происходит. Стал крутить какую-то ручку. Тросики под брюхом быков напряглись, попоны потянули вверх. Быки оторвались от пола и беспомощно повисли под потолком, шевеля ногами, мотая рогами, отекая слюной и пеной. Так мы летели, забившись в хвост самолета. Когда опустились на землю и пошли, шатаясь, восвояси, Шмелев сказал: «А все-таки мы получили драгоценный опыт. Вот так будут перевозить быков-производителей на Луну, чтобы улучшить поголовье лунного стада…»
Коробейников, волнуясь, завершил свой экспромт, видя, как восхитительно сверкают и хохочут глаза стройной женщины, меняя свой цвет от нежно-изумрудного до темно-голубого. И все, кто находился в гостиной, одобрительно усмехались, покачивали титулованными головами, и Ардатов несколько раз хлопнул своими породистыми, чисто вымытыми ладонями.
– Вы замечательный рассказчик! – с наивным восхищением произнес сосед Андрей. – Вижу, как живых! Эти алые быки с жужжащими солнечными пропеллерами!
Коробейников торжествовал. Незваный, случайный, он включился в загадочную игру, в таинственное состязание и не проиграл. Выдержал первое предложенное ему испытание. Угадал правила изощренной игры, прошел по узкому коридору вдоль каменных статуй, не задев и не опрокинув. Был принят в тесный круг избранных на самых начальных ролях, и это наполняло его торжеством. Вместе с ним торжествовала прекрасная стройная женщина, прижавшая свое нежное золотистое лицо к косяку дверей. А ее величественный седовласый муж не скрывал восхищения:
– Эту картину мог бы нарисовать великий Шагал. Крылатые алые быки и небесные голубые пастухи вращаются в невесомости.
В прихожей раздался звонок. Хозяин пошел открывать. Послышались голоса, смех, и в гостиную, к величайшему изумлению Коробейникова, вошел Стремжинский, его газетный начальник, которого привык видеть в рабочем кабинете, под зеленым электронным табло, совершающим священнодейство над свежим газетным оттиском. Сейчас Стремжинский был возбужден, быть может, пьян, в распахнутом пиджаке и съехавшем на сторону галстуке. Его упрямые воловьи глаза бурно вращались, радостно озирая гостиную. Чуть вывернутые губы продолжали хохотать, а тяжелая рука обнимала Марка Солима. Тот нес это бремя, посмеивался какой-то шутке, быть может, непристойной, которую отпустил в прихожей новоявленный гость.
– Поклон всему честному собранию!.. Леночка, примите еще одного своего поклонника, который мысленно осыпает вас с ног до головы цветами!.. Ба-ба-ба, кого я вижу! – Глаза Стремжинского с радостным изумлением остановились на Коробейникове. – Молодое дарование!.. Какая приятная встреча!.. Вы уже вернулись из Праги?
Стремжинский был в прекрасном настроении, шумно и развязно шутил. Был встречен дружелюбными улыбками, как встречают своих, извиняя им невольные бестактности. А Коробейников вдруг испытал смятение, ощущение неслучайных совпадений, которые, складываясь в цепочку встреч, странным образом привели его в этот респектабельный уютный дом. Каменные исполины Бамиана, на которых намекал Стремжинский и которым служили сидевшие в гостиной жрецы. Статья об архитекторе Шмелеве, которую хвалил Стремжинский и о которой только что шел разговор в гостиной. Саблин, легкомысленно и изящно передавший ему сестру, с которой они промчались по Москве в упоительном стоцветном вихре, и он, опьяненный, словно в наркотическом сне, поднимался с ней в тесном старинном лифте, видя близко от себя ее сияющие, дрожащие глаза. Все это казалось неслучайным, было связано невидимой нитью. Но не было времени проследить цепочки событий и обнаружить в них глубинную, неслучайную связь.
– Вы уже завершили свое состязание в риторике? – Погружая одну стопу в пышную шкуру барана, а другую уставив в черно-красный персидский ковер, Стремжинский пил виски из толстого стакана. – Я не приготовил никакого особого блюда, ибо жизнь моя проходит в стенах кабинета среди бесконечной бессмыслицы. Только иногда «на мой закат печальный взглянет любовь с улыбкою прощальной». Да какой-нибудь острослов наградит смешным анекдотом. Кстати, вместо этюда по изящной словесности, послушайте анекдот. – Он радостно осмотрел собравшихся, наивно готовясь хохотать по поводу того, что еще только намеревался поведать. – Один западный немец побывал в СССР, возвращается в Германию и рассказывает: «Знаете, я хотел привезти вам какой-нибудь советский подарок, но там в магазинах такие большие очереди, что просто невозможно их выстоять. Но вот я узнал, что у них есть такой большой магазин, где продают игрушечных мышей, – “Маус”. Называется “Маусолеум”, на Красной площади. Прихожу, а там огромная очередь. Я встал и думаю, что привезу домой русскую игрушку – мышь. Простоял три часа, а когда подошла моя очередь и я вошел в магазин, выяснилось, что всех мышей уже продали, а сам продавец умер». – Стремжинский радостно захохотал, запивая анекдот виски, озирая друзей воловьими, выпуклыми глазами.
Одни кивали головой, другие тонко и печально улыбались, не то анекдоту, не то своему подгулявшему, переутомившемуся на работе товарищу.
Коробейникова покоробила вольность политического анекдота, исходившая от того, кто в его глазах был ревнителем государственной идеологии, стоял на страже ритуальных святынь, одной из которых являлся стеклянный саркофаг, озаренный мертвенным аметистовым светом, где в лучах, с желтоватым стеариновым лбом, рыжеватой бородкой, с чуть заметной капелькой бальзама на веках, покоился Ленин.
– Но это не для вас, – обернулся к Коробейникову Стремжинский, дурашливо мотая пальцем, словно угадал его недоумение. – Помните, я вам говорил? Вступайте в партию, и вам откроются новые горизонты. Нам требуются новые кадры.
– Мы вас ждали, – с неудовольствием заметил Бобин, строго устремив на Стремжинского косматые, цвета солода усы, желая таким образом остановить вольнодумца. – Необходимо срочно организовать статью, которая бы нанесла удар одновременно по «славянофилам» и «западникам». Необходимо придавить оба враждующих фланга и отдать приоритет господствующей, марксистской идеологии, которая как-то померкла в последнее время, уступив место этим «потешным» сражениям. Мы развернем кампанию в прессе против явлений антиисторизма, ссылаясь на Пражскую весну как на пример пренебрежения основами марксистского мировоззрения.
– Я бы не стал делить поровну предполагаемый удар, – глубокомысленно заметил Марк Солим, – главное внимание следует обратить на усиление шовинистического, русского фактора, чреватого проявлениями антисемитизма и скрытой религиозной пропаганды. Систему можно реформировать либо в сторону прогресса и мировой цивилизации, на чем настаивают многие умеренные «западники», либо в сторону исторического регресса, «реванша кулаков и попов», о чем предупреждает нас классик.
– Это тонкий баланс, и его по миллиграммам следует выверять уже после написания статьи, – произнес Цукатов, зорко щуря свои поголубевшие глаза, становясь вдруг похожим на провизора, который на одну чашечку аптекарских весов кладет маленькие блестящие гирьки, а на другую костяным совочком сыплет целебный порошок. – Вопрос, кому заказать статью?
– Я думаю, тут незаменим Хромой Бес, – гулко продул в розоватый короткий хобот Приваков, – день назад в ЦК мы обсуждали с ним эту тему, и он правильно расставлял все акценты.
– Ему и закажем, и пусть он в ней поменьше «окает», а побольше «грассирует», – довольно засмеялся Ардатов, заколыхав своим упитанным породистым подбородком.
– И теперь, товарищи, вернемся к китайской теме, – не давая простор иронии, Цукатов остановил смеющегося Ардатова, – думаю, следует начать постепенное усиление антикитайской пропаганды, используя участившиеся пограничные инциденты на Дальнем Востоке и в Казахстане. – Он обратился к Стремжинскому: – Я бы вообще открыл газетную рубрику под условным названием «На границе тучи ходят хмуро». Мы должны отвлечь внимание населения от западной границы, перенеся его на восточную.
– Тогда добейтесь на это согласия у недоумков в ЦК, у трусливых клерков в МИДе и у «серых полковников» в КГБ! – сердито воскликнул Стремжинский. – Я хожу по лезвию бритвы и не хочу быть козлом отпущения.
Все умолкли и посмотрели в сторону Коробейникова, который не понимал до конца логику политического разговора, чувствуя лишь, что оказался в центре сложного и, быть может, опасного заговора. Его присутствие нежелательно, мешает свободному высказыванию суждений. Пора было уходить, не злоупотребляя гостеприимством, что он и сделал, раскланиваясь:
– Прошу извинить, мне пора. – Коробейников отвесил общий поклон, лишь одному своему соседу Андрею пожимая на прощание легкую горячую руку.
Его провожали до дверей Елена и Марк Солимы.
– Приходите еще, – любезно говорил хозяин, обнимая талию жены, – мне бы хотелось прочитать вашу книгу.
– Я непременно передам ее с Рудольфом, – обещал Коробейников, не глядя на женское улыбающееся лицо, а лишь на серый подол платья, на стройную ногу в легкой домашней босоножке.
На улице было темно, ветрено. Дождь перестал. Все так же во дворе стояли черные лимузины, в которых дремали возницы, поджидая барственных пассажиров. Коробейников сел в свой «москвич», покатил домой в Текстильщики, чувствуя утомление и непонимание. Москва больше не являла ему разноцветного волшебного чуда. Вечер, недавно казавшийся фантастическим, сулившим чудесные перемены в жизни, теперь сливался со множеством прожитых вечеров, был уже в прошлом, тонул. Над ним смыкались волны обыденности.
Пьянящий наркоз, что впрыснули в его разгоряченную кровь, выветривался. В машине не пахло женскими духами. Устало и печально он вел автомобиль по черному асфальту.
Глава 9
«Моя жизнь прожита. Я глубокий, забытый миром старик, завершающий последние истлевающие остатки бытия, чтобы исчезнуть, кануть навсегда, превратиться в ничто. Словно меня никогда не было и мое появление осталось незамеченным людьми, Богом, звездами, которые уже и теперь, покуда еще теплится моя жизнь, равнодушно от меня отвернулись. Без сил, с меркнущей памятью, в сумеречной дремоте, лежу то ли на больничной койке с железной некрашеной спинкой, то ли на тюремных нарах, упираясь ногами в каменную холодную стену, то ли на утлом промятом ложе в дешевой гостинице на краю земли, завершая жизнь беглеца и изгнанника. Сквозь приоткрытые веки в сонных зрачках остановилась неясная искра света, – от зарешеченной лампы в бетонном потолке камеры, или синего ночника за перегородкой больничного бокса, или мертвенного фонаря в кроне дерева, что чахнет на окраине безымянного поселка, полузасыпанного песками пустыни.
Эта неясная искра скоро померкнет, и я исчезну. И, зная неизбежность моего превращения в ничто, я цепляюсь за эту последнюю тачку света, от которой в прошлое тянется мерцающая длинная линия. Можно переместиться по ней и попасть туда, где я, мальчик, наивно и восторженно верю в неповторимость моего существования, уповаю на чудо, ожидающее меня за порогом милой тесной квартирки в Тихвинском переулке. Там я живу вместе с мамой и бабушкой среди предметов, составляющих убранство комнат.
Эти предметы моего детства я помню лучше, чем ландшафты азиатских гор и африканских лесов, отчетливей, гем бульвары Парижа и туманные кристаллы Манхэттена. Эта утварь сохранена памятью свежо и чудесно как изначальные, самые естественные очертания мира, где я оказался. Стал проступать из тумана, и в моем просыпающемся сознании начали возникать волшебные контуры столов, шкафов, окон, затейливые шкатулки, бронзовые подсвечники, фарфоровые вазы. Я их вижу теперь на огромном от них удалении, во всей их материальной достоверности. Лишь зыбко меняются расстояния между ними, смещается их положение в комнате, словно комната наполнена темноватой текущей водой. Или они находятся в невесомости, расплываются один от другого. Бронзовый подсвечник с медведем тихо плывет к потолку, медленно перевертывается, и я вижу зеленую патину на медвежьем ухе, которое я любил трогать моей детской рукой, и старую капельку воска, которую я потом отломил. Я ловлю эти парящие в космическом корабле предметы, возвращаю на место, но они снова плывут из-под рук. Затея, которой я занят в моей немощи и которая наполняет мои ночные часы узника или неизлечимо больного, сводится к тому, чтобы расставить по местам предметы. Если мне это удастся, то время соберет свои растраченные секунды, и хотя бы на миг воскреснет мое детство.
Мне кажется, если я поставлю хрустальный тяжелый куб чернильницы в свободный от пыли квадрат, то над столом из золотистой мглы возникнет новогодняя елка, в блестках, в сверкающих нитях, в красных и голубых свечах, вокруг которых плавает жар, бежит капель, колышутся бумажные звезды, катаются хрупкие шары и фонарики, и мой сосед, такой же, как и я, мальчик, завороженно смотрит на высокую стеклянную пику с радужной сердцевиной, держа в просвечивающих пальцах стеклянный серебряный дирижабль.
Если я установлю на вершине буфета высокую китайскую вазу, вокруг которой обвился фарфоровый дракон, и на стенках сосуда бьются саблями восточные воины, высятся крепостные стены и башни, то окно моей комнаты наполнится зимним янтарным солнцем, в синеве раскинет корявые ветви усыпанный снегом тополь, засверкает у водостока перламутровая волнистая сосулька, и я в форточку, охваченный студеной синью, потяну мою тонкую руку, стараясь достать заостренную книзу, пленительную ледяную отливку.
Если выдвинуть на середину комнаты гнутую, обитую стертой кожей каталку, в которую можно забраться с ногами и, слыша усталый хруст деревянных завитков и вавилонов, раскрыть на коленях старинную мамину книжку, французские сказки с дивными гравюрами, с золотым тиснением обложки, то можно уловить негромкий звяк тарелок за дверью, невнятные разговоры мамы и бабушки, которые говорят обо мне, и так покойно и радостно среди этих неразличимых слов, негромких родных голосов, тихого скрипа каталки.
Если встать на резную табуреточку с мавританским узором, потянуться к деревянным кольцам, на которых висит тяжелая занавеска, сдвинуть их по темной полированной палке, то откроется утреннее, сумрачно-синее окно в переулок, желтые, еще непогашенные зимние фонари, туманные оранжевые окна в доме напротив, и в одном из них, лунно белея сквозь наледь, теплая после сна обнаженная женщина поворачивается пред невидимым зеркалом, медленно надевает лиф на свои полные груди, и от этого ежеутреннего, головокружительного зрелища нельзя оторваться.
Моя память – удивительное, загадочное место Вселенной, где нарушаются неукоснительные законы мироздания, связанные с пространством и временем. Одно переходит в другое. Время изменяет направление и возвращается к истокам. Предметы перевоплощаются друг в друга, меняются местами, восхитительно и странно парят в незримых потоках. Моя память – поразительный инструмент, сконструированный природой, где она изменяет себе самой. Свидетельствует об иной закономерности мира, о волшебстве творения и, возможно, о преодолении смерти. Как невесомые лучи солнца по воле Творца превращаются в сочное яблоко, так память моя превращает смугло-алый текинский ковер на стене в хохочущее лицо белокурой девочки, которая подарила мне первую ошеломляющую влюбленность. А полосатая мутака на кушетке оборачивается дедом, который явился с мороза, раздраженно кашляет в передней, пока бабушка помогает ему стягивать тяжелую старую шубу. Зажженный под потолком светильник в свинцовой оплетке, состоящий из множества стеклянных осколков, из которых, если неотрывно смотреть, возникают забавные изображения птиц, зверей, человеческих лиц, – этот светильник плавно перетекает в ангину, наполняющую меня страданием и жаром, и бабушка, трепеща от волнения, несет мне пиалу с вкусным куриным бульоном.
Эти предметы и фетиши, окружающие меня таинственными хранящими силами, защитными оболочками, олицетворяющие целостность и гармонию маленькой дивной планеты, на которой протекает мое детство, на самом деле являются остатками взорванного светила, откуда долетели до меня лишь разрозненные обломки. Усилиями мамы и бабушки они выхвачены из черного дыма, спасены от истребления. Являются свидетельствами цветущего уклада, где огромная дружная семья в прекрасном солнечном доме под южными небесами, как и множество других, теперь несуществующих семей, была частью благословенного, навеки уничтоженного прошлого. Сквозь эту семью, колыхая штыками, прошли революционные полки. Проплыли тяжелые легальные пароходы, увозя за море остатки разгромленных армий. Пролегли тюремные этапы и пересылки. Прокатились военные эшелоны. Пролетели бессчетные похоронки, прощальные письма, постановления трибуналов и “троек”.
Фарфоровая китайская ваза с драконом, упирающаяся в потолок нашей низенькой комнаты, когда-то стояла в просторной гостиной с выходом в благоухающий сад. Мой прадед, в домашнем сюртуке, с серебряной бородой, обойдя с садовыми ножницами кусты роз, ставил в вазу роскошный пышный букет, ожидая, когда в гостиную высыплет шумная ватага детей, среди которых прелестная, с волнистыми русыми волосами, Настенька, моя будущая бабушка. Светильник в свинцовой оплетке, собранный из разноцветных стекол, горел высоко над роялем, где собрались три сестры – очаровательные девочки, полные девичьих мечтаний, с альбомами, томиками сентиментальных стихов, сокровенными тайнами. Одна из них, Таня, моя будущая мама, потеряв на фронте мужа, сохранила меня среди пожаров, голодного мора, эвакуаций и воздушных тревог. Другая, Вера, пережила в Ленинграде блокаду, арест, лагеря, уральскую длинную ссылку. Третья, Тася, самая миловидная и мечтательная, пропала за границей, унесенная огромным сквозняком, дующим в черный пролом русской истории, как крохотная пушинка, затерявшись среди других континентов. Светильник, переливаясь золотистым и алым, помнит девичьи локоны, кружевные легкие платья, худые обнаженные руки, розовые пальчики Таси, бегающие по клавишам рояля.
Но и милая планета моего детства с ландшафтом комодов, буфетов и тумбочек, с рукодельными коврами, цветными подушками и мягкими покрывалами, с восхитительными предметами, расставленными на столе, на полочках, за стеклами старинного, из красного дерева, буфета, – эта маленькая гармоничная планета тоже погибла от прямого попадания метеорита, разметавшего хрупкий, сберегаемый мир. Множество его осколков бесследно пропало, было раздарено, украдено, снесено в антикварные лавки, погибло в грудах хлама и мусора. Малая часть перешла во владение к моим детям, потерялась среди изделий другого времени, утонула в новом укладе, странно и нелепо присутствуя среди электронного дизайна квартир, яркой пластиковой красоты интерьеров, безделушек и фетишей иной, синтетической природы. Мои дети от меня отреклись, забыли о моем существовании. Не ведают, жив я или умер. Не знают, на каком языке сделана надпись на воротах больницы, где я доживаю последние дни. В какой континент будет зарыт мой бездомный прах. За какие преступления я заточен в тюремную камеру. Но вдруг сын Василий, погрубевший, потемневший с годами под бременем житейских невзгод, внезапно наткнется на серебряную тайную ложечку с вензелем, и в его печальном сознании вдруг вспыхнет чудесный день. Мы вышли из избы и спускаемся к озеру. Он перебирает своими упругими стройными ножками в цветущей колее, путается в розовых липких «богатырских цветах». Я подхватываю его на плечи. И оттуда ликующим взором он охватывает перламутровые дали, голубое озеро, темную на стекленеющей воде лодку, где мать и сестра счастливо машут, зовут. И все мы, любящие и счастливые, окружены Божественной сияющей сферой.
В моей немощи, когда обессиленное тело не способно двигаться и любое шевеление вызывает страдание и боль, только одно сознание сохранило способность движения. Содержит в себе остатки того, что когда-то составляло личность, для которой естественным было ежеминутное творчество. Вот и теперь мой разум занят странной забавой, вовлечен в увлекательное предсмертное творчество, которое заменяет мне мудрствования, глубокомысленные размышления о смысле жизни, о тщете бытия.
Я вижу наш старинный, стройный буфет из орехового дерева, с резным навершием, похожим на затейливую женскую прическу, с прозрачной легкостью створок, сквозь которые просвечивают драгоценные изделия из серебра, фарфор старинных сервизов. Этот бабушкин буфет напоминает прелестную даму. В нем столько женственности, прелести, хрупкого изящества, что хочется подойти и с поклоном поцеловать протянутую теплую руку, где на запястье тикают крохотные золотые часики, а длинные пальцы стиснуты золотым, с дедовским бриллиантом кольцом. Дверца в буфет приоткрыта. Сквозь волнистое старинной работы стекло просвечивают голубые чашки, плетеная корзинка со столовым серебром, блюдо с орхидеями, ваза на толстой стеклянной ноге. Все это видят мои стариковские слипшиеся глаза, которые жадно в своей слепоте взирают на прозрачную дверцу. Вызванное этим пристальным ожиданием, неисчезнувшим во мне колдовством, совершается чудо. С легким звоном, ссыпая с плеч стеклянный блеск, сквозь дверцу проходят люди: мои прадеды, бабки, прабабки, мои деды и дядья, многочисленная родня в старомодных камзолах, сюртуках и мундирах, в кринолинах, сарафанах, в бальных со шлейфами платьях. Проникают по одному сквозь стекло, стройные, с прямыми спинами, просветленными строгими лицами, с какими выступают на подиуме и шествуют, демонстрируя стать, изящество походки, благородство туалетов и поз. Я смотрю без устали на их бесконечную вереницу. Некоторых узнаю, вспоминая старинный семейный альбом. Других воспринимаю на веру, угадывая по сходству фамильных черт. Они движутся сквозь дверцу буфета, достигают моих глаз, становятся прозрачно-пустыми, невесомо проходят сквозь меня, исчезают. Среди них в стеклянной дверце появляется мой отец, молодой, в красноармейской шинели, в обмотках, в тяжелых солдатских ботинках. Шагнув сквозь дверцу буфета, он выходит в бескрайнюю снежную степь, где летают солнечные ледяные поземки, и падает в ослепительный снег с красным рубцом во лбу.
Мне кажется, если пойти навстречу отцу, проникнуть сквозь хрупкую створку, не задеть сервизы, стеклянные блюда и вазы, то по другую сторону буфета можно выйти в рай, где встретит меня многочисленная, ушедшая из жизни родня, возьмет меня под руки, примет в свое многолюдье».
Глава 10
День прошел в раздумьях над новой книгой, в составлении плана, в перебирании черновиков и набросков, в которых, словно в ворохе палой листвы, шелестело, шевелилось, дышало невидимое существо романа. К вечеру Коробейников отправился в Тихвинский переулок, в дом, где прошло его детство и где оставались жить мама и бабушка. Была суббота, когда совершалось ритуальное купание бабушки, и мать половину дня посвящала приготовлениям: мыла ванную, расставляла нагреватели, стелила чистое постельное белье, готовила заварку, мыла цветастый чайник, встряхивала над ним пышную лоскутную бабу. Но уже неделю, как маме нездоровилось, омовение откладывалось, бабушка нервничала и страдала. Наконец мать жалобно и застенчиво, голосом, похожим на мольбу, попросила Коробейникова приехать и искупать бабушку.
Утомленно в домашнем халате мать хлопотала на кухне. Слабо кивнула бледным, увядшим лицом вошедшему Коробейникову. Из прихожей в полуоткрытую дверь он видел, как бабушка дремлет в маленьком белом креслице, укутанная в шерстяную кофту, выставив ноги в домашних шлепанцах, склонив маленькую серебряную голову. Она была похожа на легкое белесое облачко, что залетело в дом, опустилось ненадолго в креслице, до первого дуновения ветра, который подхватит его и унесет. И от этого – такая любовь, такое слезное к ней влечение, желание подойти и обнять, заслонить собой от холодного дуновения, продлить ее тихую дремоту с едва заметным колыханием старой кофты.
Он тихо вошел, но бабушка не слухом, а чутким, постоянно направленным на него ожиданием, уловила его появление. На коричневом, морщинистом лице, в складках и углублениях, похожих на русло сухого ручья, по которому когда-то пронесся бурный поток, открылись глаза. И в этих маленьких милых глазах вдруг вспыхнул такой живой изумительный свет, такое умиление и обожание, что вся она ожила, похорошела, словно внутри лица загорелась теплая чудная лампа.