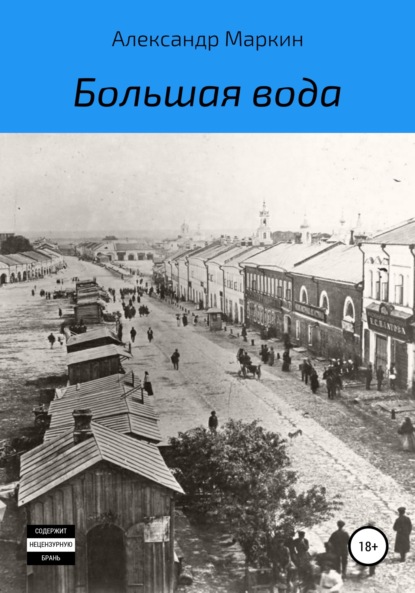По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Большая вода
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Двадцатые числа апреля… значит, перед самой пасхой… хорошо».
«Что известно о деньгах, где они хранятся?» – продолжал Константин.
«В барском доме хранятся, где именно, неизвестно».
«Плохо, что неизвестно. Если заранее не установим, где деньги, на их поиски можно потратить много времени. Это, однако, риск…»
«А я не провидец и в спальне карасёвской не живу, чтобы точно знать, где деньги хранятся».
«В доме есть свои люди?» – резко отрезал молодой голос.
«Что значит свои? Вы тут что-то в шпионов заигрались, господа…» – с ехидцей, но как будто зевая и млея, произнёс приказчик.
«В том смысле, что нам нужен человек, который укажет, где именно лежат деньги, и будет в доле», – решительно высказал Константин.
Внимательно слушая и практически не шевелясь, Бальтазар впервые подумал о том, что ему вскоре понадобится отсюда незаметно выйти и что ему необходим план отступления. Мысль, вспыхнув в голове молнией, резко потухла, когда Степан Матвеевич продолжил.
«Есть на примете один человек… он работает в доме Карасевых, но ему надо предложить столько денег, чтобы крыша набекрень ушла, столько, чтобы замечтался он другую жизнь на них начать… самому барствовать после…»
«Предложите ему 1000 рублей, деньги немалые за одно только слово»
«Так, а со мной о деньгах вы поговорить не хотите? Сам должен понимать ради чего предавать буду. Ну, так что? Господа…» – странно повеселевшим голосом произнёс Степан Матвеевич.
«Наше предложение таково, убираем из суммы 1000 рублей, остальное делим из расчёта 70 на 30: 30 процентов вам, 70 процентов нам».
«Ну, нет, так дело не пойдёт», – с обидой произнёс Степан Матвеевич и даже покашлял вновь в кулак. «Вы что, – своим сиплым голосом сказал тот, – меня надуть хотите? Да шиш вам, с маслом! Я не согласен, слышите? Не согласен! – взбунтовался он.
«Так сколько же вы хотите?» – хладнокровно произнес Константин.
«Половина на половину! И, баста!» – хлёстко выпалил приказчик.
«Хм, со всем уважением к вам отношусь, но это неприемлемо для нас, могу предложить вам 40%, но не более».
«Мда… Вижу, господа, вы не нуждаетесь во мне. Ну, что же, очень жаль, конечно, я был так рад нашему неожиданному союзу. Но теперь, чувствую я, нам пора разойтись…»
Интонация его голоса говорила об обиде, только что нанесённой ему этим предложением. Стул под ним немного заскрипел, как бывает, когда с него резко встают».
Бальтазар вздрогнул, но по велению какого-то чувства остался на месте.
«Вы так спешите нас покинуть», – всё с тем же спокойствием продолжил Константин. «А ведь наше предприятие может сулить выгоду и нам и вам, и кто знает, может быть речь идёт о большем куше, до конца ведь неизвестно, на какие деньги мы можем рассчитывать?! Мы твердо уверены только в том минимуме, который у них должен быть во время заключения сделки. Так вот, может быть у них тысчёнка-другая и сверх лежит, не все же деньги в обороте».
«Да, но только дела это не меняет, деньги пополам, или я не с вами, господа!»
После резкого возражения Степана Матвеевича и паузы, последующей за ней, стало понятно, что Константин и его молодой напарник не ожидали, что всё может повернуться именно так, и явно не рассчитывали, по незнанию характера приказчика, на такие его аппетиты и что, в целом, придётся делить куш поровну.
«Хорошо, Степан Матвеевич, по рукам – 50 на 50 и ни процентом менее. Но бОльшая доля – бОльшая ответственность, поэтому вы должны сделать всё, чтобы найти человека в доме, который покажет вам, где деньги, без этого боюсь…»
«Не надо ничего бояться, молодые люди, – с живостью оборвал Степан Матвеевич, – человек такой будет, обязательно будет, здесь сомнений нет, а пока вынужден с вами попрощаться, господа, думаю, следующая наша встреча должна определить день, в который мы осуществим наш замысел, очень немаловажно выбрать такой день…»
На этих словах стул под Степаном Матвеевичем вновь заскрипел, и это послужило знаком для Бальтазара: он на цыпочках, как можно тише и как только позволяла его немалая фигура, вышел из сеней, ловко, в два прыжка, преодолел лестницу и с приличной скоростью бега направился в сторону дома купцов Карасёвых.
Глава 9. Голубятня
В городе по прошествии многих лет уже практически никто не помнил, когда и каким образом на улицах появилась странная седовласая женщина, говорившая небылицы, бредившая и без всякого такта нападавшая на прохожих, высказывая им всё, что ей заблагорассудиться. И некоторым могло показаться, что она настолько неотделима от этого места, что была здесь всегда.
Она была моложавой старушкой, на вид не более шестидесяти лет, её седые волосы были убраны в пучок, светло-голубые глаза смотрели пристально и с вызовом. Практически круглый год её можно было встретить в одной и той же одежде, длинная чёрная юбка в пол, такого же цвета вязаная шерстяная кофта и старые, с треснувшей кожей, издававшие скрип, по виду своему бывшие много раз в ремонте, башмаки. Вообще, если бы не её эпатажное поведение, можно было бы сделать вывод, что она носит по кому-то траур.
По имени её никто давно не называл, да и немногие знали её и интересовались ей, все говорили «помешанная», «юродивая» или «рехнутая», некоторые говорили даже «бесноватая», а мальчишки, бегавшие порой за ней, называли её «голубятня».
Так вот, никто точно не знал историю её жизни, как и на чём она помешалась, были только одни догадки и россказни. Говорили, что когда-то это была довольно зажиточная мещанка, попавшая в город случайно и оставшаяся здесь навсегда, что за один месяц она потеряла мужа и детей и, оставшись одна на белом свете, сошла с ума. Говорили, что она святая, кто-то утверждал, что в ней бесы, но большинство считало её юродивой, то есть блаженной во имя Господа Бога.
Была она крайне неусидчива, иногда могла провести весь день в ходьбе и даже не присесть. Порой ходила кругами, при том маленькими, могла часами ходить вокруг одного дома или небольшого куска улицы, шла, словно проходя лабиринты, неожиданно в сторону, так что цельного круга никогда почти и не получалось. Шла осторожно, смотрела себе под ноги, часто сопровождая это тихой бубнёжкой под нос, но было и так: шла тихо, даже размеренно и вдруг ни с того ни с сего взрывалась, начинала громко и с выражением петь, махать руками, топтаться на месте, прыгать, кричать…
Часто, а быть может и практически всегда, её можно было наблюдать в компании целой стаи голубей, до сих пор неизвестно, что именно послужило такой любви птиц к этой женщине, но любовь была совершенной и, по всей видимости, разделённой.
Голуби облепляли её со всех сторон так, что иногда было трудно увидеть за ними самого человека. К тому же необходимо привести тот факт, который, к слову, был общеизвестным, что птицы никогда на неё не гадили, и на её черной, как ряса, одежде не было ни пятна.
Иногда она смотрела куда-то вдаль, её взгляд был рассеян, она не видела ничего перед собой, взгляд проникал сквозь пространство, тогда она останавливалась в оцепенении на дороге и долгое время могла не пошевелиться.
Ранним апрельским утром горничная, служащая у купцов Карасёвых, отпросившись для похода на рынок, вышла из барского дома. Её внешний вид, если к нему присмотреться ближе, мог рассказать о том, что молодая девушка сегодня утром собиралась впопыхах, красивые локоны её волос были убраны наспех и торчали из под платка, обувь была не начищена, а симпатичное, круглое, чуть скуластое и сильно румяное лицо имело встревоженный вид, а, может, даже и оттенок той внутренней борьбы, на которую только была способна душа двадцатидвухлетней деревенской девушки. В руке она несла плетёную корзину, приготовленную для покупок.
Направляясь в сторону рынка, она словно не хотела быть замеченной. Опустив голову, смотрела исключительно перед собой или под ноги. Облик этой молодой девушки странным образом сочетал крупные черты лица с миловидностью, а узкий, почти татарский, разрез глаз придавал её, на первый взгляд, простому лицу хитринку, особенно обнаруживаемую тогда, когда она улыбалась.
В городе все знали, что она сирота и что по желанию Петра Михайловича, ввиду богоугодности этого дела, по выходу из богадельни поступила прямо на службу в дом Карасёвых несколько лет тому назад.
Сегодня утром Анфиса (именно так звали горничную) вызвалась сходить за рыбой, к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Так как рыбой купцы Карасёвы не занимались, она в отличие от многих других товаров покупалось на рынке.
Задумавшись, девушка несколько раз чуть не повернула в другую сторону, хотя знала маленький городок наизусть. И тут на пересечении рыночной площади с одной из улиц, практически у начала самих торговых рядов, она натолкнулась на нечто странное: перед ней стояло пугало с распростертыми в сторону руками, на нём целой тучей громоздились голуби, создавая таким образом один сплошной единый образ. Эта стена из птиц могла бы быть монолитной, если бы голуби периодически не взлетали и не садились обратно. Но конструкция, на которой обитали птицы, была живая, это был человек из плоти и крови.
Зрелище заставило её остановиться и внимательно присмотреться к происходящему. Она заметила женщину под роем птиц, ей открылось её лицо. Их глаза встретились. Анфиса вздрогнула, увидев на глазах юродивой слезы. Женщина оставалась безмолвной, она продолжала смотреть на девушку, а та стояла как вкопанная и абсолютно ничего не предпринимала.
Наконец горничная отвернулась от приковавшего её внимание зрелища. Она резким движением отошла в сторону, удивленным, а потом злым, косым взглядом посмотрела на юродивую и нетвердым шагом побрела прочь. Пройдя несколько метров и выйдя на площадь, где стояли торговые ряды при немалом стечении народа, Анфиса, почувствовав, что ей становится дурно, и мрак застилает ей глаза, рухнула на землю.
Глава 10. Предательство
Упавшую горничную быстро привели в чувство, её подняли с земли пришедшие на помощь два молодых приказчика, служившие неподалёку, после чего проводили её обратно в дом Карасёвых. Её хорошо знали в городе как их домработницу.
Вчера она получила записку и решилась на важный шаг и встречу. Записка заинтриговала её, хотя была получена от хорошо знакомого ей человека.
Анфиса была непростой крестьянской девушкой. Психиатр, если бы обследовал её, назвал бы её характер амбивалентным. В доме Карасёвых она была на хорошем счету, её знали как милую, аккуратную, исполнительную и кроткую. Впрочем, Анфиса была такой.
Дарья относилась к ней, как к сестре. Делилась украшениями, платьями, мыслями и никогда не смотрела свысока. Да и никто не смотрел в этой семье на неё свысока, так что она давно стала её частью.
Но в душе её такой тёплый приём производил другой эффект, её пытливый ум, в сочетании с самомнением и мнительностью, заставлял её, сидя у себя в комнатке темными вечерами, думать про себя: «Кто я для них?!»
В глубине души она видела за всем этим отеческим теплом, исходящим почти от каждого в этом доме, вежливость господина, повелевающего своему слуге, она не чувствовала себя равной, а чувствовала себя униженной этими людьми. Униженной добротой, искренними теплыми чувствами, мягким обращением тех людей, которые дали ей пищу, кров и заработок.
Никогда не показывая это на людях, она была оскорблена Карасёвыми. Любезничая с Дарьей, словно её хорошая подруга, она презирала её за красоту и за то состояние, которое оставят ей родители. Она знала, что ей никогда не сделаться такой же, и горько винила судьбу за то, что была рождена нищенкой.