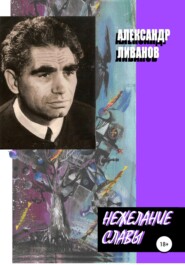По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мой конь розовый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ну, положим… Помню, не любили… Промолчу… И вправду все митинговала, а меня, крохотулечку, все на чужие руки сбагривала. Чего уж там… Плохая мать была… Такой бы, по правде, и вовсе незачем рожать бы… Всю жизнь митинговала по поводу мировой революции… Смыслила в ней ничуть не больше, скажем, того же Нагульнова… В общем, исторический прецедент. Надо же было кому-то «проводить» и «осуществлять»… Пусть уж рассказывает! Об отце – это интересно. Отца-то я любила. Красив был! И темный бабник».
И Лариса Павловна только крепче поджала губы. Подобие румянца проступило на ее скуластом, неженственном, лице в очках. Даже какая-то недобрая улыбка змеилась на плотных губах.
– За вами ухаживал, говорите, отец? Это правда?
– Ухаживал?.. Не то слово! «Озолочу!» – говорит, – только отдайся мне! В руках его змеей, прямо змеей хожу! Не соединились…
– И что же? Вы, конечно, устояли? То есть – до конца так?
– А то! Уж как он меня заклинал, как целовал… Все – только не это!.. А то, как знать, может совсем бы породнились… Не любил он вашу мать, вот что я вам скажу… Может обидно вам будет, но дело прошлое, и правда. Может, вам интересно будет узнать… Ваша мама «сплошную неграмотность» по вечерам добивает, а он меня ждет далеко в поле. За скирдой… Это мать, шалопута его, обожала… Да я тоже… Известно, непутевых мужиков бабы любят!..
– Ну да, ну да… А меня сбагрили какой-то старухе… Жовки, мякиш черного хлеба, из своего слюнявого и беззубого рта мне в рот совала… Люльку всю завесила черной шалью – в щелку вижу только лампадку перед «страшным боженькой»… Совсем крохотулькой была. Многое забыла, а это помню… Ну-ну и что же дальше?
Лариса Павловна была из той породы женщин, которые растут под безоговорочным знаком отца. Приходит это к дочери, видимо, от матери. Видать, так она сильна женская любовь матери, что еще как бы «переплескивается» в дочь. И «шалопут», и «перекати-поле» – а почему-то любили его люди, а мать и вправду не любили. Она была заведующей трехгруппной, как тогда называлась, школой, а он при той же школе – истопник и столяр, печник и сторож. Был он у сельчан притчей во языцех, не мужик, не горожанин, все еще донашивал шинельку с гражданской, азартно отплясывал на всё реже встречавшихся свадьбах и над всем пошучивал. Партейцы его то и дело «завлекали», выговаривали ему, пытались давать поручения – ничего из этого не вышло. «Я всю свою активность на войну положил! Завоевал вам власть – а теперь посмотрю, как вы с моей женой будете счастливую жизнь строить!.. Валяйте, а я посмотрю!..».
А все же за советом шли не к матери-учительнице, не к «блаженной дуре ученой», а к «шалопуту»-отцу. Все это Лариса Павловна хорошо помнит. Потом в старости был он то завскладом, то истопником в котельной, вроде Морозова доставал и читал чудные всякие старые книги (Морозов все до одной у нее их выудил! Какого-то славянофила Леонтьева и Циолковского, Федорова и Мережковского, отца Флоренского и академика Вернадского… Морозов сказал, что, уже по книгам судя, это был «настоящий ум», что «жаль, что помер – подружился бы с ним! Было б с кем потолковать»! Чудик, видать, был. Вроде этого же, Морозова!).
В войну, сам в котельной починил старую винтовку и ушел в ополчение. Где теперь его могила? А вскоре и мать померла.
«Э-эх, чего вспоминать… Многих славный путь… Но чем же кончился роман с этой?..»
Ларисе Павловне не хотелось видеть рядом с этой рыхлой толстухой с куриной мозгой – отца. Она любила его – причем же эта женщина? Нет, во всем уступит она – пусть в Москве жить невозможно, пусть все москвичи – ненормальные, пусть даже она сама странная ученая… Но отца она ей не отдаст! Даже памяти о нем – не отдаст. Не имеет она права вспоминать!
– Предлагал – уедем вместе! Хошь, на Донбасс, хошь на Урал! Только – отдайся мне: озолочу!
– Глупости вы все говорите! Что же вы совсем уж не знаете мужчин! – вдруг осерчав, разомкнув руки на груди, будто собралась драться, втянув голову в плечи, взволнованно заходила по диагонали паласа Лариса Павловна. Она старалась быть убедительной, следя за интонацией – точно вторично защищала диссертацию о Куликовской битве. – Мужчина всегда добивается от женщины одного! Тут он и влюблен, и с ума сходит… Не может он оставить женщину, или там, девушку – без этого… «Озолочу!» – смешно сказать, он золота и в глаза не видел! Это он каждой девке в селе так говорил! Он, как всякий настоящий мужчина, был бабник! Был жеребец! А вы уши развесили! Влюблен!..
Лариса Павловна чувствовала, что завралась. Знала она, что не любил отец мать, что случалось ему изменять ей, но вслух «бабник… жеребец» – это уже слишком. Но пусть хотя бы и так – лишь бы не вообразить себе рядом отца с этой дурой набитой, с ее запахом лука и мешковины! Нет и нет!..
– И больше я об этом слышать не хочу! Вы меня поняли!..
Но обернувшись к гостье, осеклась. Гостья плакала. Теми молчаливыми и скупыми слезами, которые приходят лишь из горестного сердца. Чего угодно ждала Лариса Павловна, но только не этого.
– Я, признаться, может, лишь из-за этого и хотела у вас остановиться. Есть у меня адресок старушки. Двухкомнатная. Три рубля за сутки, по-божески ведь… Хотела вам рассказать… Думала облегчу душу, поймете… Ан нет – хоть ученый вы доктор… Обиделись! А мне-то што… Только этой памятью и жила… Любил он меня, любил и любил! И я его всю жизнь любила! Всю жизнь, понимаете? А что не поддалась, так дура была! О вас думала, о детишках его! О тебе и сестренке! Жизнь ему не хотела сломать – а себе вот: сломала! Не поверили, ну и пусть: мы любили друг друга! Пусть я не ученый доктор, но я такая же женщина, как вы! Что же не поняла бы я, когда мужчина просто добивается своего – а когда любит! Это уж, позвольте каждая женщина понимает! Поддается она – или не поддается, а – понимает! Да! В общем, такой дебет-кредит… Съезжу я от вас… Дура я, думала – поймете. Доверила вам душу. На старости… Ничего не берегла, не нажила. Этим жила… А вы – высмеяли. Вроде меня-то и любить не за что было. А вот любил! На зло вам: любил! Потому что не вам чета… Ученый – не ученый. Умный и порядочный был! Каких мало! Да!
Матрена Лукьяновна пошморгала носом, вытерла слезы, отложила вязанье и пошла укладывать чемодан.
Лариса Павловна хотела ее удержать – главное, недовязанный пуловер – но подумала о том, что Морозов в таких случаях говорит: «Что ни делается – к лучшему». И еще подумала о том, что он же Морозов говорит, что «доброта должна быть от разума» – сказала: «Если не устроитесь – сможете вернуться».
– Нет уж, не вернусь… Звонила старушке – примет.
И когда чемодан уже был уложен, заметила вязанье, взяла и его положила в чемодан.
– Закончу, сможете получить работу. Не бросать же шерсть. Деньги стоит…
И выходя из передней, даже не погладила Рекса. Лариса Павловна, проверив замок и накинутую цепочку, вернулась в комнату и долго еще, точно маятник, ходила по диагонали паласа. Потом поняв, что собственно ни о чем она не думает, а чисто механически излучает свою взволнованность, отправилась на кухню. Открыла холодильник, достала из пакета подморозившуюся печенку, кинула ее на сковородку. Надо было приготовить обед для Рекса.
Гипнотическое средство
И опять надо переодеваться – «выйти на люди»… Господи! Сколько этих переодеваний за жизнь! И в этом тоже – «люди – актеры…» Если б люди так заботились о форме души, как о «форме одежды», о «внешности»…
А ведь, чуть что тебя вразумляют, тебе напоминают: «Встречают по одежке, провожают по уму»! Что и толковать – не оспорить поговорку, народная наблюдательность, народная мудрость в ней… Что касается первой половины поговорки – она – вне всякого сомнения. А вот вторая… Ведь чтоб «проводить по уму» нужны такие две – не простые! – вещи, как ум у провожающего, раз, и ум у провожаемого – два. То есть – наличие ума у одного, и способность заметить в ком-то ум у второго, что тоже ум… А такое совпадение – уже редкость. Да и умов – сто сортов!
Зато первая половина пословицы, видать, и вправду универсальна. Толстой в дневнике за 1896 год писал: «Одно из самых сильных средств гипнотизации – внешнего воздействия на душевное состояние человека – это наряд. Это хорошо знают люди: от этого монашеская одежда в монастырях и мундир в войске…»
Иными словами, речь о «форме». И она, увы, остается «одним из самых гипнотических средств» и поныне. И даже не обязательно «в монастырях» и «в войске». Есть люди, которые всю жизнь «берут формой». Не то, чтобы одеваться красиво, чисто, аккуратно, обязательно еще – дорого, модно, престижно… Некие артисты «на одну роль, на один наряд»! Один из них, мой знакомый со школьных лет, и меня «учил жить». «Если ты являешься к начальнику отдела кадров в костюме за двести рублей, он и не подумает тебе предложить работу на семьдесят рублей. Примерно столько стоишь, во сколько одет!». Или другой его афоризм: «Человек столько стоит, сколько сам себя ценит».
И что же? Учился мой знакомый через пень-колоду, тянули его, что называется за уши, ведь учителя те же люди, о которых у Толстого сказано, что они знают «гипнотизацию наряда», а мой знакомый А. еще тогда, пусть не сам, родителями, одевался лучше всех в школе! Был он увальнем, никогда не спорил ни с кем, ни с учениками, ни тем более с учителями. Смотрит прямо, чуть лишь краснеет и усмехается. Не сказать, чтобы нагло, нет, – дескать, зачем об этом, лишнее! Ну и что из того, что ничего не знает? Зачем об этом говорить? И так ведь ясно, что можно неплохо прожить и без знаний! Неужели, мол, вы не догадываетесь об этом? Это была именно – усмешка, а не насмешка. Будто неловко ему даже за то, что люди не знают простых вещей о жизни! И так и рос, будто знает о жизни какую-то свою тайну, верил в нее, следовал ей, не споря и не ссорясь ни с кем. Иным это казалось добротой, а по сути было это своеобычным эгоизмом. То, что он слегка краснел – казалось совестью, на деле же слабым искуплением за тот же эгоизм. Вот, мол, пристают: будто не видят, что я себя ценю выше остальных! Что на мне куртка на молниях, дорогие техасски, и ковбойка фирмы «Лорд Энтони»! Я же не виноват, что нравлюсь учительницам, нравлюсь девчонкам-одноклассницам!.. Так примерно можно было истолковать его усмешку и привычку слегка краснеть.
Да, он ни в чем не был виноват… Девчонки и вправду липли к нему, без какого-то видимого усилия с его стороны. Пожалуй, он даже был к ним равнодушен, ни в одну не был влюблен. Лишь одна вострушка, смугленькая и с жесткими кудряшками, не отступалась от него… Она и стала его женой…
И пошел А. в жизнь. Кончил институт – так же, как школу, слегка краснея и усмехаясь, ни с кем не споря, и не ссорясь. Опять это сходило за доброту и совестливость… Вот разве что стала усмешка более значительной, а глаза стал отводить в сторону, вдруг став серьезным. Мол, дураки вы все, еще посмотрим – кто как устроится! Вот разве что куртку на молниях сменил добротно сшитый замшевый пиджачок, под которым, одним небрежным витком, накинутый виднелся красный шарф… В общем, в свой день и час – диплом был положен в карман…
И пошел А. расти, как на дрожжах. Замшевую куртку и красный шарф сменил дорогой двухбортный костюм пятьдесят шестого размера. Дороден, совсем дороден стал. А. тогда был всего лишь управляющим какого-то треста. Трест был строительным, много в нем было техники и механизмов. Мне было странно, что А., который никогда не имел дело ни с какой техникой, даже игрушечным «конструктором» в детстве, даже велосипедом, никогда не «пачкал руки» ни отверткой, ни разводным ключом, то есть вообще в жизни ничего не делал руками, руководил целыми стройками! Я как-то, не стерпел, спросил у него об этом.
И опять, слегка покраснев, точно и впрямь ему совестно за такие наивные вопросы, небрежно процедил.
– Э! Железки… Главное – люди…
И все же изменился он. Какая-то поповская медлительность и рыхлость теперь была в его дородности, так же поповски, настороженно и медленно, светили его удивительно светлые глаза на широком и круглом, с тяжелой багровостью, лице. Похоже, что появилась у него одышливость от многолетней неподвижности…
Впрочем, в тресте А. не засиделся в своем кабинете. Он теперь носил финский костюм стального цвета стоимостью за триста рублей. Разумеется, и костюмы покупал не он – жена, все та же востроглазая и жесткокудрявая, уже поседевшая, но завивавшаяся у дорогого мастера столь же энергичная жена А. С людьми была она необщительна, попросту никого не видела – точно берегла зрение для одного А., чтоб неотрывно смотреть на него: как он одет! Она и одевала его, точно костюмерша артиста, будучи неотлучно возле него в уборной. И рубашку, и галстук, и запонки. А. лишь вяло водил толстой шеей и тяжелым подбородком. За финским костюмом последовал кабинет управляющего трестом. Разумеется, оклад, его повышение, вполне соответствовали повышенной стоимости костюма от «финских скал бурых», равно как то, что зеленый «Жигуль» теперь у подъезда сменила черная «Волга»…
Вчера я видел А. одетого в костюм из «Берёзки». Само собой разумеется, для А. грядет новое назначение!
Как видите, знает поговорка – о чем говорит. Впрочем, что касается А. – он, судя по всему, делает упор на первой ее половине. Ему важно, чтоб именно встречали по одежке! А уж как провожают – это неважно. Да и где и кому пытаться разгадать его ум, если А. всю жизнь – кабинетный сиделец? Если всю жизнь человек берет формой? От костюма, который жена ему покупает, до доклада, который референт ему сочинит, отдаст переписать лучшей машинистке на лучшей бумаге, чтоб А. его отшебучил, точно Отче наш, с трибуны… Да разве и вы не знаете таких людей вроде А. – людей, которые все берут в жизни одной лишь формой? Может, всего лишь кой-что подправить настало время в поговорке? Мол, и встречают, и провожают ныне по одежке? По форме, то есть?
Не стареет слово народное! Старые погудки на новый лад. Но, может, и вправду А. и иже с ним умнее нас с вами? Ведь видим мы его, как на ладошке. Что же нам мешает следовать его примеру, словно услышали и восприняли его лозунг, его девиз, его шибболет: «действуй формой!». Стало быть, совесть нам не позволяет. И тут уже другое слово народное: «Против совести не попрёшь!..».
Урок
Учитель: Я тебя на минутку прерву… Вот ты сказал: «Штольц – антитеза Обломова… Это правильно, конечно. Так и в учебнике пишут. Но, главное, Штольц – друг Обломова!
Ученик: Конечно, друг! Я об этом не успел сказать…
Учитель: Понимаю. Но вот скажи. У каждого из нас есть друг. У тебя, наверно, есть. Так? И вот ты знаешь, что в каждой дружбе – чья-то инициатива – первая. Кто-то в этой дружбе больше нуждается, кто-то меньше. Правда, бывает – водой не разольешь…
Ученик: Нет, про их дружбу не скажешь – водой не разольешь. В дружбе этой, во-первых, инициатива Штольца. Во-вторых, он в ней больше нуждается…
Учитель: Верно, верно… Я тоже так думаю… Но что же из этого следует? Или – так, по порядку. Почему Штольцу держаться Обломова, почему опекает его? Вроде бы корысти ему от этого никакой?
Ученик: Не скажите! Стало быть, есть корысть…То есть не материальная… И даже неосознанная…
Учитель: Так-так! Продолжайте! Интересно…
Ученик: Штольц чувствует в Обломове прекрасные душевные задатки! Те, которых сам лишен… Штольц потом скажет про Обломова – «Душа чиста и ясна, как стекло; благороден, нежен, и – пропал!». Мол, лучше меня, а пропал. Но Штольц бы не поменялся с другом!
Учитель: Верно, верно… И дальше? Может даже статься, что этот прагматик Штольц в тайниках души завидует Обломову?.. За то хотя бы, что ему ничего не надо – в то время, как самому всегда все надо?.. А вот, скажите, как по-вашему, Обломов вообще относится к жизни, к действительности?