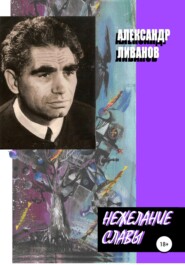По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мой конь розовый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отец: В том-то и дело, что «получаешь» – не «зарабатываешь»! Штаны протираешь, о хоккее травишь, анекдоты сочиняешь.
Сын: Переоцениваешь меня. Анекдоты – талант! Не таким ты меня, батя, родил. Увы, только слушать способен…
Отец: Да ты сам тот анекдот… Как подумаешь…
Сын: Ты пенсионер – тебе думать и вовсе не положено!
Отец: Я начинаю понимать… Избаловали вас… Все-все! Родители, школа, институт и завод, всё общество… Так и готовили вас иждивенцами. Я за жизнь – один! То есть, как инженер – один! – два моста построил. Стоят еще, как миленькие. Два завода. Три электростанции… Мало? Нам просто нельзя было не знать. Жадно до науки догрызались. Все-все – от жизни и дела – и для жизни и дела! Помню в институте еще. Занятия по теории машин и механизмов. Профессор – еще старомодный, в толстовке и пенсне, бороденка – эспаньолкой называлась. Оракул! Не читал лекцию – вещал, как бог. И все басом – в коридорах слышно было. Попробуй что-то не знать – двойка! Чем его проймешь? Рабоче-крестьянским происхождением? Комсомольским билетом? Ничем не проймешь! Месяц без стипендии – ходи голодный.
Сын: Не профессор – ирод!
Отец: Да? Это ты ирод! И тебе подобные. Тему занятий аккуратно всегда писал на доске. Потом еще вслух – басом – повторит: «Тема занятий – эпице-кли-ческие механизмы!» И давай чертить-рисовать… Только набросал схему – еще жирно не обвел, но двоечник наш Сидоренко и кричит: «Да это же годится на трансмиссию к молотилке!» «Кто кричал?» «Я кричал… Извините». «А… двоечник… Ступайте-ка, батенька, к доске! Нарисуете – считайте: пересдали мой предмет!» Мы и замерли все. Очень хотелось нам, чтоб нарисовал. И что же – нарисовал! «Всё?» «Нет, еще подшипники…» «Тогда все?» «Нет, кронштейны еще…» «Ну, батенька, как будет уже совсем всё – тогда скажете нам!»
Дорисовал и подшипники Селлерса, и кронштейны. «Где это сооружение видел?» «Дак – в колхозе… Летось работал…»
Не «дак» и не «летось»! Схема – правильная – на перемене доложу в учебной части! За вторую половину стипендию получите! Вот так! Теперь прошу внимания – всех! Мне зубрилки не нужны! Мне, что надо? Чтоб вы – со-об-ра-жа-ли! Инженер должен – со-об-ра-жать!»
Сын: Ах-ах… Какая трогательная история… Какой добряк-профессор…
Отец: Доб-ряк? С чего ты взял? Требовательный! Справедливый! Вот поэтому я помню его науку! Это тебя, видать, учили добряки! Просто – равнодушные… Нас, мол, жалели. Диплом зазря дали – и мы так… Доброта – хуже воровства. Эх, подай-ка мне с тумбочки валидол… Что с тобой говорить!..
Перед вечностью
Первое, что удивило всех – было сам по себе немецкий лейтенант, который шел рядом с той молодой женщиной, с грудным младенцем на руках… Как будто солдаты конвоя, озлобленно и отчужденно зыркающие на людей, эти сторожевые псы с автоматами наготове, вовсе его не касались и не ему поручено было командовать ими.
Впрочем, он, видимо, был вполне уверен, что из темной, вяло тянущейся по весенней распутице, толпы никто не убежит. Все, старики, женщины, дети были изнурены недавними лагерями, обессилены, главное, утратили совершенно волю к жизни. Казалось, они шли на смерть вполне равнодушно. Может, даже с надеждой: конец мучениям…
Потом всех, кто шел недалеко от женщины с ребенком у груди, с этим розовым с белым, все еще опрятным и живым свертком среди нежизни изможденных лиц, грязных одежд под цвет раскисшего праха дороги, всех удивило, что лейтенант разговаривал с женщиной. Разговаривал негромко, вполне мирно, будто не знал, что через какой-то час, вот лишь одолеют эти несколько километров распутицы – расстояние, оставшееся до крематория после лагерей – не станет ни этой, все еще привлекательной женщины, ни ее ребенка в одеяльце, которого она, как ни в чем ни бывало, прижимала к груди…
Главное, они разговаривали по-русски. Лейтенант знал русский язык! В отличие от солдат с автоматами наизготове и овчарками, ничего грозного в лейтенанте не было. Шел рядом с женщиной, о чем-то время от времени говорил ей, видимо даже шутил, потом, на ходу, снова принимался строгать красивым перочинным ножиком какой-то прутик. Строгал его машинально, без цели, видимо, ради каких-то своих мыслей. Может по поводу этой женщины с грудным ребенком. Видимо, женщина просто нравилась ему. А может, даже жалел ее…
– А теперь ступайте себе, – сказала женщина лейтенанту. – Мне надо покормить ребенка…
– Вы что же, стесняетесь меня?.. По сути, фантастическая ситуация, согласитесь, фройляйн… Через час ни вас, ни вашего ребенка не будет… Как это у вашего русского земляка, у Бунина – огнь пожирающий… И конец, и вечность. А вы собираетесь кормить ребенка. Да еще при этом этвас… как это? Чуть-чуть! При этом стесняетесь перед мужчиной обнажить грудь… Удивительно. Странно.
– Что же здесь странного. Я ведь женщина – и стыд останется со мной до конца… Я была учительницей, преподавала одно время – психологию… Заинтересовалась, стала читать помимо школьного учебника. Стыд – это разновидность совести. Видно, вам, господин офицер-фашист, этого не понять…
– Почему же? Изучал Фрейда в университете! Либидо! Собачки Павлова! Чего только не изучает человек!
– Чтоб стать фашистом, убийцей – это и вправду ни к чему.
– О, фройляйн! Вы можете дать себе… полная свобода! Я не рассержусь. Не моя воля, не моя совесть – выполняю; долг! Война и Фюрер. Я – зольдат, я – под-ши-нен-ный – есть… Кормите свой ребенка… Я не помешаю вам… Давно не видел женская, белая грудь… Это есть красиво!
Он принялся строгать свой прутик, испытывая безотчетное удовольствие – от того как хорошо резал его острый, красивый ножик с матово белой перламутровой ручкой.
– Вы, видать, не только фашист, но и сентиментальный зануда, – тихо вздохнула женщина. – И вправду нечего мне стыдиться фашиста… Последний раз покормлю ребенка. Выполню свой долг… Остальное не от меня зависит… Остальное – вечность. Хочется думать, там уж фашистов нет… А, господин фашист?
Она расстегнула кофточку и дала ребенку грудь – тот, явив из свертка лишь пуговку носика, один глаз и край бледной щечки, озабоченно морщась, с жадностью принялся сосать. Немец, задумчиво отняв ножик от прутика, воззрился на грудь женщины.
– Вы молодой фашист… Наверно, киндер еще нет?
– Нет, нет… После войны буду диссертацию писать. Наука! Психология!.. Мне все наблюдайт надо!
– Наблюдай, наблюдай, сволочь, – прямо в лицо, даже незлобливо, усмехнулась женщина. – Я не должна тебя стесняться… не должна… Мы разные биологические виды… А, может, разные даже рода существ. Я и мой ребенок – люди. И умрем как люди… Вас, господин фашист не смущает то, что никто не просит пощадить его, никто не плачет, даже не смотрят на вас?
– Смирение?.. Неотвратность сие? Так, фройляйн?
– Нет, не так, господин фашист… Не смирение… Глубокий стыд. Шок совести. Стыд, что люди могут стать фашистами. А если это так – не стоит жить. Ценность жизни утрачена.
– Это интересно, фройляйн! Это я вечером запишу! Наука требует систематичность… Спасибо фройляйн!
– Мне не нужно ваше «спасибо»… Это из другого, из человеческого мира… Для вас, фашистов – анахронизм… Все же ступайте теперь. Хочу напоследок побыть наедине с ребенком своим. Мне нужно проститься с ним… Последние минуты жизни на земле… Пусть нам ничто не напоминает о фашизме! Вы меня поняли? Ступайте!..
Голос женщины стал вдруг резким. Она не отводила взгляда от лейтенанта – и тот растерянно заморгал своими бесцветными ресницами.
– Яволь, фройляйн… Зер гут… Яволь… – вдруг забыл он все русские слова. Он пятился, все больше отставая. Он смотрел вслед женщине с ребенком – она ни разу больше не обернулась.
Финансовая дисциплина
Мы с ним курили в конце узкого, издательского коридора, у небольшого низкого окна, врезанного в почти метровую, старинной кладки, стену. Я, видимо, пришелся ему по душе тем, что не пытался с ним заговаривать, вообще не обращал на него внимания, занятый папиросой, интимной и бездумной сосредоточенностью курильщика, едва успев с ним поздороваться.
И о чем было нам говорить с ним? Он – главный бухгалтер, я рядовой редактор. Ни общего дела, ни общих интересов. А говорить лишь затем, чтоб молчание не показалось невежливым – мы оба не находили это нужным… Наоборот, в том, что не затевали такого пустого, мнимо-вежливого разговора, оба мы чувствовали, что отдаем этим дань уважения друг другу…
– Вы, кажется, и сами что-то пишете? – все же спросил он меня однажды. Он, конечно, не хотел меня обидеть этим «что-то» и «кажется». В голосе было снисходительное понимание. Что ему на это ответишь, когда и вправду пока то, что пишется – лишь «что-то», когда и самому все пока лишь – «кажется»?..
– А вы как думаете? Должен редактор что-то писать? Или не должен?
– Как вам сказать? – наморщил он лоб и пустил дым к потолку. У него и сейчас был вид «руководящий» – он «решал вопрос», а не просто беседовал. – По-моему, редактор – это редактор, а писатель – это писатель!
– То есть, редактор – служащий, а писатель – творческий человек? Иными словами, – редактор – не творческая работа?
– Уж какая там – «творческая работа»!.. Куда хватили! Ненормированный, правда, рабочий день… Двадцать четыре дня отпуска… Служащий, одним словом…
– Вот это-то и плохо, – протянул я, как бы отвечая своим собственным мыслям. – Понимаете, если редактор служащий, не творческий человек, и книги будут такие же… служащие… Безликие, одним словом… Редактор должен обязательно быть писателем! Даже более опытным писателем… Чтоб автору помочь, направить его, подсказать… Кто были на Руси редакторами? Пушкин и Некрасов, Достоевский и Щедрин, Толстой и Горький!
– Эка хватили… Другое было время!..
– И другая литература!.. Почти все, что издавалось стало классикой! А ныне? Из тысячи книг, – может, одна лишь остается в литературе! А почему? Потому что редакторы – служащие! Не писатели… Подчиненные у начальства… А начальство подчиненное у своего начальства… Оклады, двадцать четыре дня отпуска, машины крутятся, краска мажется, листы-оттиски и план. Все есть – литературы нет!..
– Эка хватили! Может еще и хозяина, частника, то есть, вернуть?
– Не знаю, не знаю… А вот независимость писателю нужно бы вернуть… И в редакторы ему дать – писателей! Художников!..
Он как-то неопределенно хмыкнул, вынул из губ папиросу, оглядел ее недокуренную часть, плюнул на торец – и хорошо отработанным щелчком отправил ее в угол. Я думал, что на этом наш разговор и кончится. Я готов был к этому. Дескать, сам начал. Что ты еще надеялся услышать от меня? О погоде? О футболе? О том – как я отдыхал в прошлом году – и как намерен отдыхать в этом году? Прошу прощения… С такими разговорами обращайся к нашим дамам. К слову сказать, они – в твоем понимании – полноценные редакторы! Они – служащие! Сами в жизни строки не написали! Они хорошие подчиненные! Кого и чего скажут – издают. Чувств никаких не изведав… Все-все – им все равно! Они – женщины! Им вообще все-все в жизни – кроме любви – до лампочки!.. «Чудную паровую говядину вчера купила!» О литературе? Пожалуйста. «Писатель Н…. Он теперь женат на артистке С.! Старой жене оставил дачу в Переделкино! Уже третий раз женится – каждую жену оставляет обеспеченной! А что? Молодец! Редакторы?.. Служащие!.. Им что в сберкассе, что редактором – все одно!..
– Я еще помню писателей тридцатых… – Так он еще не ушел? Что он еще имеет мне сообщить? Уж бы лучше молча курили. – Скажем, Гайдар. Знаете, конечно! Классик, да? Вот и у нас о прошлом годе трехтомник его прошел… Так себе – сказочки… Разошелся! Прибыль. А скажем серьезная книга академика Федченко о син-хро-фазо-тронах – не пошла! Убыток десять тысяч. На балансе висит! А почему? Сказочки любите вы, редакторы! Не то, чтоб финансовую дисциплину блюсти… Да, – так вот: Гайдар… А что такое – Гайдар?.. Еще по тридцатым его помню… Приходит как-то: дай денег! Как то есть – «дай»? «Хоть бы – червонец!» Я что же – печатаю их, эти червонцы? Положено – получай. Форма одиннадцать, форма сорок три… Когда положено – тогда, пожалуйста, сумма прописью, подпись – и будь здоров… Дай и дай! Как банный лист! «Потом в десятикратном вычтешь! Вам же выгода!» Какая мне выгода? У меня вся выгода – моя зарплата и моя прогрессивка. Финансовая дисциплина – не богадельня ведь! Видите – до чего несерьезные люди ваши писатели! «Паустовскому вон в ведомости полторы тыщи». Дай ему, мол, сколь-нибудь из них! Они-де с Паустовским друзья… Потом проверил – и вправду друзья. «Почему не дали?» Ну серьезно это? А есть у меня такая форма, чтоб за друзей получать?.. Финансовая дисциплина, вишь, для них – игрушки!.. Вот тебе и классики!.. Думаешь, – все? Как бы не так! Потом и вправду книжку издал – на большие тыщи потянула. Тираж!.. Не хочет все получать! «Пусть будут на счету – когда понадобятся»… Забуду – а потом вспомню»… Во-о – пи-са-те-ли… Вот здесь они у меня… Вся шея в мозолях от их! «Возьми да положи на сберкнижку». «Нет, сберкнижку помнить буду – сразу все истрачу… Родне, знакомым раздам». А ты не раздавай! Я раздаю? Вы раздаете?
– Но они – не как все.