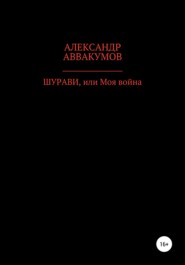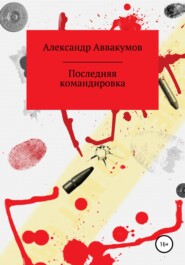По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пятна на солнце
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он дальний родственник первого секретаря нашего городского комитета партии, и тот попросил меня, чтобы я с вами обговорил это дело. Как, договорились?
Александр не ответил, так как не знал, как отреагировать на просьбу первого секретаря горкома. Начинать свою работу с конфронтации с руководством города ему не хотелось, и он махнул рукой.
– Ладно. Но если я еще раз замечу за ним желание обидеть ребенка, я его непременно отправлю на Соловки.
– Вот и хорошо, Александр Михайлович. Значит договорились.
Он быстро разлил водку по стаканам и, подняв свой, предложил выпить за знакомство. Они выпили и стали закусывать. На столе Сорокина зазвонил телефон. Антонов поднял трубку.
– Извините, Александр Михайлович. Меня вызывает первый, – произнес он и поднял указательный палец.
Прихватив с собой пустой портфель, он скрылся за дверью. Сорокин встал из-за стола и сел на диван. Он закрыл глаза и углубился в воспоминания.
* * *
Шел октябрь 1942 года. За окном госпиталя, в котором находился Сорокин, шел снег вперемешку с дождем. Сильный северо-западный ветер срывал остатки листвы и с силой бросал их на землю. Дорожки были желтыми от опавших листьев. В палате – сыро и холодно. Александр сидел около печи и пытался согреться: дрова потрескивали, и искры то и дело вылетали из открытой дверцы и падали на металлический лист, подложенный кем-то из санитаров.
«Жизнь человека, словно искра, сверкнула и погасла», – подумал он, наблюдая за ними.
Он ждал выписки и поэтому не спускал глаз с белой больничной двери, за которой заседала военно-врачебная комиссия. За этой таинственной дверью решались человеческие судьбы. Врачи зачитывали диагнозы, словно приговоры, и люди, выходящие из дверей, то счастливо улыбались, то, наоборот, громко ругались, кляня всех и все на этом свете.
Мужчина средних лет, одетый в белый халат, долго и нудно зачитывал медицинскую историю Сорокина. А тот сначала с интересом вслушивался, в произносимые на латыни слова, но затем ужаснулся столь длинному списку незнакомых ему названий. Закончив читать, мужчина положил его толстую медицинскую карточку на стол и взглянул на членов комиссии. В кабинете повисла тишина, от которой Александру стало не по себе.
– Ну что, Сорокин? – обращаясь к нему, произнес приглашенный профессор. – Могу сказать лишь одно…
Он сделал паузу и посмотрел на притихших коллег.
– Вы не можете дальше служить в действующей армии, – произнес светила медицины. – Мы вынуждены отказать вам в вашем заявлении об отправке на фронт. Мы отошлем ваше дело в Управление кадров наркомата внутренних дел, пусть они сами решают, как поступить с вами. Могу сказать, что ваша служба в органах на этом закончилась. Я понимаю ваше состояние, и хотел бы посоветовать вам, как можно быстрее адаптироваться в гражданской жизни.
Сорокин хотел возразить профессору, но сидящий в сторонке полковник посмотрел на него так, что сразу отбил у него желание спорить.
– Посидите немного в коридоре. Сейчас сестра подготовит вам выписку из истории вашей болезни, и вы сможете покинуть госпиталь. Ничего не поделаешь, капитан, это – второе ранение в ногу, и скажите спасибо персоналу госпиталя, что им удалось сохранить ее от ампутации.
Профессор был прав: пуля немецкого пулемета задела кость, и врачам пришлось долго удалять частицы костной ткани из раны, которая постоянно воспалялась и нагнаивалась. Он повернулся на шум открываемой двери и посмотрел на хирурга, который вышел из кабинета и, не взглянув на него, проследовал по коридору в сторону операционной.
Сорокин взял в руки оставленную у двери палочку и, прихрамывая, пошел по длинному узкому коридору. В нем, как и в палате, было сыро и холодно: единственная печь, отапливающая коридор, не могла прогреть его.
– Посторонись, капитан, – произнес санитар, несущий носилки с трупом в мертвецкую.
Сорокин посторонился, пропуская их мимо себя, а затем снова продолжил свой путь. Где-то в палате громко работал репродуктор, и он на минуту остановился, прислушиваясь к очередной военной сводке: наши войска после длительных и кровопролитных боев отходили к Сталинграду. Диктор сообщал о сданных населенных пунктах, о сбитых самолетах и сожженных танках.
«Неужели нет силы, которая могла бы остановить немецкие наступающие части? Где эти армады танков и самолетов, что демонстрировали в кинохрониках?» – от этих размышлений настроение Александра окончательно испортилось.
«Немцы под Сталинградом, а меня в резерв. И самое обидное, что шансов вернуться в строй практически нет», – с сожаленьем подумал он.
Он зашел палату и сел на свою койку. На стуле лежал его полупустой вещевой мешок и полученная еще вечером старая шинель.
– Ну как, Сорокин? – спросил его сосед по койке.
Он молча махнул рукой, оставив его вопрос без ответа.
Дверь палаты отворилась и появилась медсестра. Она подошла к Сорокину и протянула ему выписку.
– Саша! – обратилась она к нему. – Я не дописала в выписке, что вы комиссованы по болезни и не можете служить в НКВД.
– Спасибо, Клава, век тебя не забуду, – произнес он.
Взяв со стула шинель, он начал быстро одеваться. Посмотрев на товарищей по палате, он попрощался с ними и направился к выходу, опираясь на палочку.
* * *
Сорокин вышел из автомобиля и, прихрамывая на правую ногу, направился к двухэтажному зданию, в котором размещалось районное отделение министерства государственной безопасности. Он уже две недели занимал должность начальника отделения и стал понемногу привыкать к жизненному укладу этого небольшого провинциального городка. Он поднялся на второй этаж и направился в дальний конец коридора, где находился его кабинет.
– Здравствуйте, Александр Михайлович, – поздоровалась с ним уборщица. – Я уже прибралась у вас в кабинете.
– Спасибо, Екатерина Игнатьевна, – поблагодарил он ее. – Как у вас дома? Все в порядке?
– Да, у нас все хорошо. Сосед мой, Иваныч, пропил все деньги и сейчас ведет себя довольно спокойно: не пристает и не скандалит.
Сорокин открыл дверь кабинета и, повесив на крючок фуражку, направился к столу. Два дня назад Екатерина Игнатьевна пожаловалась ему на своего соседа Крылова Ивана Ивановича, что тот, находясь в очередном пьяном загуле, чуть не избил ее за сделанное ему замечание. В тот же вечер Сорокин заехал в гости к женщине. Ее сосед сидел на кухне в майке и синих сатиновых трусах. Перед ним на столе стояла недопитая бутылка водки, металлическая миска, в которой лежали куски черствого хлеба и четвертинка головки репчатого лука. Заметив вошедшего офицера, он встал из-за стола и, шатаясь, направился в его сторону.
– Вот и защитник отечества явился, – произнес он заплетающимся языком. – Ну что, давай, арестовывай меня, сажай.
Александр схватил его за плечи и с силой прижал к стене.
– Слушай, арестантская гнида, дважды повторять не буду! Если ты не притихнешь, и будешь качать здесь свои права, я сделаю то, что не сделали с тобой лагерные законы. Я просто раздавлю тебя как вошь. Ты понял меня?
– Да, пошел ты …
Он не договорил. Александр ударил его кулаком в лицо. Крылов тихо сполз по стене на пол.
– Это – аванс, – произнес Сорокин. – Не утихнешь, получишь и под расчет. Понял? Я не привык дважды повторять свои команды.
Он развернулся и вышел из квартиры. Он шел по улице, опираясь на палочку, и размышлял над содеянным. Он не жалел, что ударил этого человека, так как хорошо знал, что у этой категории домашних дебоширов, есть только одна правда – сила. Ничего так не останавливает хамство, как она.
Сорокин достал из сейфа большой серый пакет, скрепленный несколькими печатями из сургуча. В правом углу пакета была надпись, сделанная перьевой ручкой «Совершенно секретно». Этот конверт передал ему нарочный, прибывший в город вчера вечером. Офицер-курьер фельдъегерской службы протянул ему амбарную книгу и попросил расписаться в получении пакета. После того как все формальности были соблюдены, он покинул его кабинет.
Александр достал из ящика стола ножницы и вскрыл пакет. В конверте лежало письмо с резолюцией генерала Каримова: «Майору Сорокину А. М. Примите меры к розыску». Документ проходил под индексом «К», что означало «Взято на контроль». Это была ориентировка о розыске фашистского пособника, сотрудника специальной группы № 724 немецкой тайной полевой полиции.
«Две недели назад на Казанском вокзале города Москва я случайно столкнулся с Демидовым Евгением Семеновичем, с которым проходил службу с октября 1941 года по июль 1942 года в составе немецкого специального подразделения тайной полевой полиции. Основной задачей нашего подразделения являлось уничтожение мирного населения, оказавшегося на оккупированной немецкими войсками территории. Подразделение базировалось в городе Бобруйск, однако действовало не только в прилегающих к городу районах, но и регулярно перебрасывалось в другие районы Белоруссии. Демидов отличался особой жестокостью при проведении акций по устрашению мирного населения. На его совести сотни замученных и расстрелянных людей. Он не щадил никого: ни детей, ни стариков, ни женщин. Он всегда хвалился тем, что никогда не оставляет свидетелей своих убийств и пыток. Все, кто сталкивался с этим страшным человеком, обязательно погибали.
В июле 1943 года Евгений Демидов бесследно исчез из подразделения. Когда и при каких обстоятельствах это произошло, никто не знал. Все тогда считали, что его убили местные партизаны или немцы.
Его приметы: возраст около сорока лет, рост средний, волосы темно-русые, зачесаны назад, глаза голубые.
Особых примет не имеет.
Не исключено, что может скрываться на обслуживаемой вами территории. При задержании необходимо проявлять осторожность, так как не исключено, что преступник вооружен».