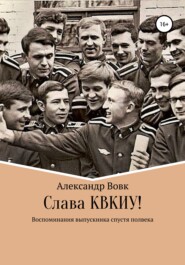По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лучик-Света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мне кажется, что в последнее время личные проблемы вам мешают исполнять служебные обязанности… Так, может, пора чем-то пожертвовать? – он осёкся и продолжил уже иным тоном. – Ладно, иди, оформляй свой отпуск, а по приезду договорим! – несколько неприязненно произнес он, отдавая подписанное им моё заявление. – И не забудь, что отпуск у тебя начнется завтра, а сегодня, надеюсь, ты решишь вопрос с десятым отделом! Разберись, наконец, что у них там происходит!
– Спасибо за понимание в трудной ситуации! – съехидничал я.
Когда я, наконец, добрался до дома, началась информационная программа «Время».
– Сереженька, только что звонил твой главный. Тебя спрашивал, но и со мной поговорил, пожелал скорейшего выздоровления. Всё-таки он милый человек! Ты сейчас будешь ему звонить? Он просил обязательно, когда придешь домой…
– Чуть погодя. Мы сегодня с тобой едем в Курган! И опять же в ночь! И опять тем же поездом «Белгород-Новосибирск»! Помнишь? В 23.15 отправление. Нам надо постараться, чтобы успеть! – сообщил я, начиная сбрасывать твои и свои вещи в дорожную сумку.
– А мне так хочется спать… А теперь всё кувырком… – расстроилась ты, потягиваясь.
– Как хочешь… Можем и остаться!
Раздался телефонный звонок.
– Сергей Петрович? Привет! Хорошо, что в этот раз ты трубку взял! Так ты, оказывается, сегодня едешь? Мне только сейчас девчата сказали! Я и не знал! Ну, доброго вам пути и большой удачи на месте! Значит, в Курган? Ах, жаль! Надо было тебе командировочное выписать… Да, уж ладно, потом премией компенсируем… Если годовой план закроем! А на меня не обижайся! Ты на конец года обижайся! Когда поезд? – я ему сказал. – Я пришлю за вами машину. Всего вам… Ждем возвращения. Я им позвоню, чтобы встретили…
– Спасибо. Еще собраться надо!
Глава 13
Никто нас не встретил, но я уверен, что главный им звонил.
После полутора суток езды, в течение которых ты постоянно чувствовала себя неважно, нам предстояло решить множество непростых задач, однако опять звонить коллегам, не удосужившимся нас встретить, мне не хотелось, только унижаться, но и в гостинице мест, конечно же, нам не досталось даже после включения всего моего обаяния.
Потому пришлось нам, как ни крути, добираться до ведомственной гостиницы машиностроительного завода и устраиваться у них почти на птичьих правах, ведь у меня не было даже командировочного предписания, всё облегчающего, да еще с тобой, имеющей иную фамилию, – предсказуемая проблема с заселением…
В общем, именно в этом ключе, то есть, весьма неудачно, сложилась вся наша поездка. Если пояснить более подробно, то разыскиваемый старик оказался, во-первых, никаким не стариком, а во-вторых, всего-то костоправом или мануальным терапевтом. Или чем-то другим, но всё равно не на нашу тему. От нас он категорически отрекся. Причем у него не нашлось и малой щепотки совести, чтобы не говорить это при тебе, и после общения с ним у меня возникло острое желание надавать ему по ушам. Этого он вполне заслужил. За столько перенесенных нами напрасно мучений! В другом случае можно было бы и простить, но ведь эти мучения, большей частью, пришлись именно на твой счет. И если бы этот счет вот-вот не грозил оказаться закрытым.
После той поездки ты совсем сникла, словно большой, прекрасный прежде цветок, но теперь с быстро увядающими и некрасиво буреющими лепестками кожи. Ты стала другой. Не веселой и ироничной, не жизнерадостной и счастливой, как прежде. Теперь ты не плакала, не проклинала свою судьбу, содрогаясь в бессильных рыданиях. Ты стала спокойной и сосредоточенной, больше погруженной в себя. Ты уже не нуждалась в разговорах со мной, и я совершенно бесполезно опять и опять что-то выдумывал, чтобы вывести тебя из пугающего меня состояния.
На мои усилия ты улыбалась одними губами, словно королева, благодарившая придворного за никчемную услугу, и молчала, молчала. Именно это абсолютное спокойствие и молчание пугали меня всё больше. Рядом с тобой я начинал чувствовать себя ребенком, ничего не понимающим в этом сложном мире, в то время как ты своим обликом демонстрировала уже состоявшееся проникновение в недоступные мне тайны вселенского бытия. Или небытия! И мне представлялось совершенно неуместным вести разговоры о пустяках, о хозяйственных делах, о работе и знакомых, которые – разговоры – совсем недавно для нас обоих являлись связующими.
Я терялся и не знал о чем с тобой говорить, а ты в этом и не нуждалась. Тем не менее, я замечал, что всякий мой уход из дома сопровождался твоим немым сожалением, выраженным одними глазами. Ты часами сидела на кровати, подтянув ноги к подбородку, и почти не шевелилась. Я что-то готовил из еды, от которой ты, благодарно улыбаясь, почти всегда отказывалась. Я вообще не знаю, чем ты жила. Ты даже пить старалась как можно реже, подозревая, что стремительный рост живота вызван как раз этим. В нем скапливались какие-то неправильные воды.
Ох уж эти воды! Дней через десять ты согласилась выйти из дома, поскольку из-за раздувшегося живота уже ничего не могла на себя надеть, пришлось срочно искать что-то подходящее в магазинах. Тебя повсюду воспринимали как беременную накануне родов. Но тебя это неожиданно для меня успокоило – никто не будет выражать обидного сожаления, так о многом тебе напоминающего – и даже развеселило: «Ну вот, я и беременной успела побыть!» Я же испугался, что после этой фразы у тебя начнется истерика, однако ошибся – ты держалась великолепно, спокойно и с достоинством.
Мы что-то второпях купили, не делая присущего женщинам упора на изысканности и уникальности вещей, тебе это было не интересно, и поспешили домой, так как ты быстро устала.
Воды (ударение на «о») всё накапливались и накапливались. Они мешали тебе во всём, но ты и их переносила без жалоб. Я же как-то опять метнулся к врачам, с просьбой помочь тебе немедленно. И опять мне, а заодно и тебе, всюду выражали формальное сочувствие, пусть даже искреннее, но не более того! Никакой медицинской помощи! Они даже предупредили меня, чтобы я не привозил тебя ни под каким предлогом.
– Какие вы, к черту врачи! – не выдержал я после этого. – Вам же человеческие страдания безразличны! Ну, сделайте хоть что-то! Откачайте эти воды! Видимо, вы понимаете в медицине не больше, чем я, но делаете еще меньше? Ведь это мешает ей дышать! Неужели вы не понимаете!
Меня слушали, не огрызаясь в ответ, но отвечал лишь главврач, делая это подчеркнуто спокойно, будто не я пред ним возмущался, а тяжелый психически больной, к которому ввиду его состояния надлежало относиться снисходительно:
– Понимаете, Инструкция Минздрава запрещает врачам вмешиваться в течение вашей болезни, поскольку достичь устойчивого облегчения за счет этого не представляется возможным, а риск обострения для больного неоправданно высок…
– О каком риске для больной, находящейся при смерти, вы говорите? Я прошу вас, лично вас, помогите ей без болей дожить хотя бы эти, последние ее месяцы! Или даже дни!
– Я вам, к сожалению, всё сказал! – подчеркнуто спокойно мямлил главврач. – Инструкция Минздрава запрещает. Мы с этим ничего поделать не можем!
Так и не добившись ничего, вечером я вызвал на дом «Скорую», соврав по телефону, что у тебя, кажется, начался сердечный приступ. Они, учитывая сообщенный им возраст, прилетели через десять минут, однако сразу во всем разобрались, попросили меня выйти в кухню, где объяснили, что, раз уж так получилось, и они уже здесь, то вынуждены внести наш адрес и номер телефона в список, на который им в последующем разрешено не реагировать.
– Это что значит? – поразился я подобной возможности.
– Это значит, что ваша больная имеет диагноз, при котором она в медицинской помощи больше не нуждается. А ещё это значит, что нам разрешено к ней не выезжать, сколько бы вы нас не вызывали!
– Ну, знаете! Какой-то подпольный фашизм процветает в нашей медицине! – сорвался я. – Народ погибает, а медицине разрешено не вмешиваться!
– Ничего подобного! Не народ, а незначительное количество тяжелых больных. Мы вам соболезнуем, но не нас в этом упрекайте! И успокойтесь, пожалуйста! Вам еще самому придется немало пережить, молодой человек, будьте же к этому готовы! Будьте мужественнее! – устало и с нескрываемым сожалением выдохнул немолодой врач. – Поверьте, мне очень-очень жаль вашу жену, но медицина в борьбе с саркомой бессильна. Увы! И именно поэтому инструкция Минздрава запрещает нам что-то предпринимать в подобных случаях! Нашим горячим человеческим желанием помочь ничего не исправишь, если не способна помочь даже наука! Я очень сожалею, извините.
– Так подскажите, кто и где сможет откачать эти чертовы воды?
– Я уже сказал вам: никто и нигде! – при этом врач неожиданно приложил палец к губам, чтобы нас не услышали его коллеги, и на листке для рецептов написал номер телефона, а потом, направив на него свой указательный палец, опять убедительно и излишне громко повторил. – Никто и нигде!
В тот же вечер я позвонил. Оказалось, обо мне уже знали и предложили немедленно встретиться, очевидно, хорошо понимая объективную срочность нашего дела. К чему я и стремился.
В условленном месте мне навстречу выдвинулся полноватый весьма плешивый мужчина примерно моего возраста. Он без лишних слов, даже не здороваясь, деловито уточнил:
– Вы Давыдов?
– Нет! Это фамилия моей жены. Вы ей поможете?
– Для начала я хочу пояснить, что знаю о тех муках, которые испытывают подобные больные, и в силу своих убеждений не могу оставаться безучастным, особенно, в таком случае, как ваш. Видите ли, когда-то от саркомы очень тяжело умирала моя мать… Насмотрелся я тогда… И было мне всего пятнадцать. Потому и решил поступать в медицинский. Мечтал стать хирургом и найти способ лечения этой ужасной болезни. Не получилось… Но я постараюсь, если уж не радикально помочь – это не в моих силах – то хотя бы облегчить оставшиеся дни вашей супруги. Вот только вам непременно следует знать, что я в таком качестве для нашего закона оказываюсь абсолютным преступником. Понимаете меня – преступником! Помогать подобным больным, как это ни дико звучит, нам ни за что не разрешается! И срок мне грозит немалый, и лишение права работать по специальности…
– Я вас понял… Сколько?
– Нет-нет! Вы меня не поняли! Вопрос не в этом! Любые ваши деньги никак нельзя сопоставить со многими годами тюрьмы для меня… Потому я вас очень прошу соблюдать величайшую конспирацию и никогда, очень вас прошу, никогда и никому не проговориться обо мне. Только если вы дадите своё слово мужчины и поклянетесь любовью этой женщины…
– Ради нее я готов на всё! Я всё сделаю! И о вас забуду сразу и навсегда!
– Поймите же, для меня это не игра! Прошу вас, отнеситесь со всей ответственностью. Я очень рискую ради вашей супруги, хотя и не видел ее никогда. Операция обойдется вам в сто пятьдесят рублей. (Тогда эта сумма равнялась двум минималкам, но реально даже самые низкооплачиваемые работники получали больше. Таким образом, он и не лукавил, называя свой гонорар в данной ситуации чисто символическим).
У меня оставались лишь практические вопросы: когда, где, что подготовить, что приобрести? Но и их мы решили на месте, вернее, я запомнил то, что мне велели, после чего испытал облегчение, надеясь, что скоро легче станет и тебе.
Операцию делали следующим днем у нас дома.
Всё оказалось куда сложнее, страшнее и дольше, нежели я предполагал. Почти три часа я провел в кухне, не рискуя глядеть на сию экзекуцию, лишь изредка принося или подавая, что требовал наш ангел-спаситель по имени Алексей. Теперь он был до крайности немногословен, сосредоточен и, главное, очень внимателен к тебе. Часто измерял давление своим прибором и почти непрерывно держал пальцы на твоем пульсе, просил не закрывать глаза, контролируя по ним твоё состояние. Реагировал быстро и, кажется, совсем не волновался. Я-то после первого с ним разговора думал, что он так и будет постоянно трястись от страха за себя и уговаривать меня проглотить мой язык. Совсем нет! Об этом он уже не напоминал. Он мне всё больше нравился.
Я вынес около двух ведер горячей жидкости, надеясь, что без этой нагрузки тебе сразу полегчает, но получилось наоборот. Через какое-то время стало угрожающе плохо. Алексей засуетился и сделал тебе приготовленным заранее шприцем укол в вену…
Ты металась, покусанными от боли губами просила пить, и пот струйками стекал с твоего перекошенного лица. Вспоминать об этом даже теперь мне тяжело и не хочется. К тому же я сильно паниковал, хотя Алексей нас и успокоил, пояснив, что без ухудшения твоего состояния и обойтись-то не могло. Это потом, может, завтра, тебе станет легче, а пока сдавленные ранее почки, сердце, печень и прочие органы, уже как-то приспособившиеся к чрезмерному давлению жидкости, без этой нагрузки стали расширяться, словно надуваемый воздушный шар, и недопустимо быстро менять режим своей деятельности… Декомпрессия!
Это очень болезненно и опасно, потому, сказал Алексей, пару часов он точно еще просидит у твоей постели, что и делал до поры, когда твоё состояние стало слегка улучшаться. Я хотел, было, его немного проводить, больше из благодарности, нежели из вежливости, но Алексей мою галантность не поддержал:
– Не оставляйте жену ни на секунду! Ей, в общем-то, дальше должно быть несколько легче; пусть она поспит. Но если вдруг ее состояние хоть немного ухудшится, повторяю, хоть немного, звоните мне немедленно. Особенно, в течение этой ночи и утром. Однако надеюсь на лучшее. Идите же к ней, и не отходите!
Та ночь прошла тяжело и для тебя, и для меня, поскольку не то чтобы заснуть, но и прилечь я себе не позволил, дежуря рядом с тобой, пребывающей в забытье, а с рассветом, успокоившись тем, что всё обошлось, незаметно для себя всё же отключился, скорчившись на стуле.