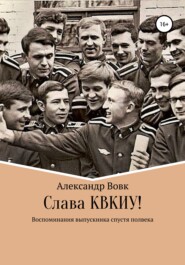По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лучик-Света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Позже пробовал уточнить ситуацию у врачей, но между нами встала пресловутая врачебная тайна, будь она неладна! Со мной вежливо отказывались говорить, уверяя, будто поступили бы так же даже при наличии штампа в паспорте. Час от часу не легче.
Ты же знаешь, я давно уверился в том, что наша медицина уже тогда, в относительно благополучные советские времена, постепенно утрачивала не только функциональность, то есть, лечила абы как, но и свою морально-нравственную чистоплотность. Клятва Гиппократа ещё существовала, но как бы отдельно от медицины, а на деле всё чаще процветало полное равнодушие к больным и, главное, поборы, всё более наглые и более значительные. Особенно на Кавказе, да и в моей родной Одессе подобная практика процветала.
Медики, люди якобы самой гуманной профессии, всё чаще превращались в хищников, занимающих свои должности только ради личного обогащения. Работать за зарплату им уже не нравилось. В стране всё увереннее закреплялась, конечно же, неофициально, аморальная практика, буйно процветающая в настоящее время: заманить, запугать, обобрать, насколько возможно, а далее – моя хата с краю. Понимая это, я очень надеялся, что ты попала именно в такой неприятный для нас переплет, а фактическое состояние твоего здоровья, дай-то бог, никак не связано с тревожащими нас диагнозами, рисуемыми медиками. В некоторой степени мне удалось внушить это и тебе. И оно тебя успокоило, хотя, понятно, на душе, так или иначе, у нас непрерывно скреблись кошки.
Наконец, понимая, что здесь, в Батуми, ничего нового не узнаем, мы решили искать правду у других врачей, попрощались и уехали к себе в Тамбов.
Наверное, наша поездка в Батуми, оказавшаяся не совсем удачной, забылась бы через некоторое время, если бы дома наши муки прекратились! Но местные врачи сказать что-то определенное не смогли или не захотели.
Одно обследование следовало за другим. Медики, все и во всём сомневались, не принимая самостоятельных и окончательных решений, собирали консилиумы, которые направляли на новые, как я понимал, лишь отвлекающие нас обследования! Одни врачи неуверенно полагали, будто нужна срочная операция, другие так же неуверенно рекомендовали с операцией подождать. В итоге мы сами запутались, кому верить и как нам быть!
Вся эта чехарда только усилила мои давние подозрения, сформулированные в виде правила для собственного употребления: «К врачам только попади – они всегда что-нибудь найдут! Хотя бы для того, чтобы не сидеть без дела! И в этом смысле хирурги самые опасные – им всё равно кого и как резать! Лишь бы резать! А уж гинекология просто создана для того, чтобы держать несчастных женщин в постоянном, непонятном им по своей сути, страхе! И доить их, доить их родственников, доить и доить!»
Я и тебя убедил, наконец, в том, что нам, вполне возможно, и не стоит особо волноваться по поводу этой необъясненной пока никем шумихи. Может, объективно и не существует острой необходимости в операции. Но в любом случае, пусть даже мы ошибаемся, то есть, операция необходима, тогда мы ее запросто сделаем, а, спустя некоторое время всё заживет, всё восстановится, всё у тебя будет хорошо! Мы с тобой распишемся, и скоро наши дети будут гуськом бегать друг за дружкой!
Я целовал тебя в заплаканные глаза, и они оживали, начинали светиться надеждой, так тебя украшавшей.
Надо сказать, что с момента приезда домой ты переселилась ко мне, поскольку между нами всё окончательно решилось. Я забыл свои сомнения: ты и только ты, несмотря ни на что, станешь моей женой. Но для начала следовало раскидать навалившиеся проблемы, в том числе, связанные с этой странной операцией.
Мне весьма польстило, когда после твоего шумного общежития, раздираемого множеством разнонаправленных сиюминутных интересов его обитательниц, усиленных теснотой, даже моя квартирка, воплотившая в себе холостятскую необжитость и запущение, с порога сделала тебя счастливой. А уж кухня, покорно упавшая к твоим ногам, даже давно и безнадежно испорченная моими кулинарными потугами, более всего привела тебя в восторг и вызвала неописуемое воодушевление.
Надо сказать, в кулинарии между нашими делами ты проявила себя столь великолепно, что я в этом вопросе сразу расслабился, заверив и тебя, и себя: «Всё! Даже в нашу столовую, совсем неплохую, я больше – ни ногой! Теперь, мой Лучик, я вместе со своим желудком всецело доверяюсь только твоим чудотворным рукам!»
Глава 7
Все наши сомнения, связанные с операцией, рассыпались внезапно, когда ты разбудила меня среди ночи. Тебя скручивало от боли и кровотечения.
А дальше была «скорая», тревожная суета озабоченных врачей, ночная сирена и хирургический стол без промедления. Я остался в больнице ждать тебя или каких-либо сведений о тебе и операции. И опять чувствовал себя болваном – ведь, надо же, отговаривал тебя от плановой операции, убеждал, что нас раскручивают! А вышло так, что я оказался слепцом и, тем самым, заставлял и тебя принимать моё, неверное, но имеющее для тебя столь нехорошие последствия решение. Может, сделай мы операцию чуть раньше, она бы решила всё иначе? И не было бы этих ужасов с кровотечениями, «скорыми» и полной головы изматывающих предположений и прогнозов.
Не знаю, сколько времени прошло, когда меня окликнули из приемного отделения. Там уже дожидался, почему-то покачиваясь на пальцах ног, видимо, разминаясь, хирург моего возраста. Держась за ручку двери и глядя мимо меня, он тихим невыразительным голосом уточнил:
– Это вы дожидаетесь Давыдову?
Помню, я глуповато замотал головой, в знак согласия, и уставился на него с полной уверенностью в том, что всё, наконец, закончилось благополучно. Может, всё именно так и было, только врач оказался крайне сух в выражении мнения о наших перспективах:
– Операцию мы сделали… Но к больной пока нельзя. Она в реанимации; еще под наркозом. Приходите завтра…
Я опять замотал головой и по инерции спросил то, о чём думал:
– И вы более подробно мне всё расскажете? А то моя жена очень переживает, что не сможет иметь детей! Хотелось бы ее сразу успокоить…
– Нет-нет! Кто-то другой! Меня не ищите – я с завтрашнего дня в отпуске! – он очень быстро, будто опасался нападения с моей стороны, развернулся и, не прощаясь, скрылся за непрозрачной стеклянной дверью.
– Спасибо и на этом! – подумал я и побрел домой, прикидывая, что же допускается приносить из еды в реанимацию, что нужно из одежды?
Выписали тебя на третий день. Прямо в мои объятия. Ты уже была весела и спокойна. Дома без промедления развила кипучую кулинарную деятельность, ласково поругав меня, будто я без тебя успел всё завалить, ничего себе не готовил, даже вещи после поезда до сих пор не разобрал! «А пылища кругом! Сколько дней без нас копилась…»
Но скоро выяснилось, что внутри у тебя не так уж спокойно. И было от чего: уж очень странно прошла выписка. Ни того хирурга, ни лечащего врача ты так и не дождалась. Они, будто умышленно тебя избегали. Странно это! Тебе вежливо отвечали, будто твой лечащий постоянно очень занят: то он тут, то он там, но опять же не у нас. Прямо, Фигаро какой-то! Разве так при выписке бывает?
Нам вручили выписные документы без каких-либо рекомендаций, не говоря уже о разрешении оставшихся у тебя вопросов! Лишь старшая медсестра напоследок сказала нам участливо, как бы, извиняясь:
– Не переживайте так! Всё образуется! Но лучше бы вам сразу съездить в Уфу. Там живет удивительный старик. Когда-то он работал у нас, потому я о нём и знаю. Замечательный чуткий человек и удивительный доктор! Неожиданно уволился и уехал, и говорят, теперь уже не работает, но всем помогает какими-то собственными рецептами. Из трав, которые сам собирает и сам готовит отвары! Только адреса я не знаю! – чем насторожила нас еще больше.
Дома мы самостоятельно покопались в коротенькой выписке из истории болезни, но буквально ничего не поняли. Лишь глаз резануло незнакомое и непонятное слово Cito, подчеркнутое красным карандашом. Ох уж это цито!
Мы с тобой сходили в поликлинику. Не по месту жительства, как надлежало, а в свою, в родное НПО. Но даже там, где мы обычно появлялись лишь для плановых осмотров, на которые нас загоняли чуть ли не силком, поведение персонала показалось странным. Особенно, когда ты вышла из кабинета женщины-гинеколога, которая тебя, как оказалось, даже осматривать не стала, зато долго-долго изучала коротенькую выписку из истории болезни, а затем пробежала мимо меня, тоскующего в коридоре, чтобы еще минут двадцать о чём-то проболтать с заместителем главврача, в кабинете которого она скрылась.
Все вокруг оказывались чрезвычайно занятыми самыми неотложными делами. Все шарахались от нас, словно от прокаженных, не отвечая на наши тревоги или делая это чересчур путанно. Меня такое отношение стало даже раздражать, всё-таки я не самый последний человек в своем НПО, чтобы вот так бесцеремонно нас всюду отталкивать, не уделяя должного внимания! Ты недоуменно поглядывала на меня и, посмеиваясь, ехидничала:
– Ну и кто обещал, будто в нашей поликлинике всё решат быстро, вежливо и крайне заинтересованно? Мол, это же не какая-то районная здравница! Как видишь, везде одно и то же!
Это не нуждалось в опровержении. Но еще более непонятным для меня, о чем до поры я тебе не сообщал, опасаясь вновь растревожить, стало полное отсутствие сколь-нибудь организованного врачами послеоперационного ухода, наставлений, лекарств, привычных назойливых требований соблюдать режим (которые обычно пропускаются мимо ушей) и прочего, что тянется за всякой хирургической операцией. Помню, уж как меня донимали врачи после простенькой операции по поводу банального аппендицита! «И то нельзя, и это невозможно! И с этим надо погодить!» Но почему же теперь, после всего того, что мы с тобой пережили за те страшные дни, всё происходит наоборот? Именно поэтому я уже догадывался, что до сих пор не понимал чего-то очень важного. Не понимаю его и теперь, и совсем не представляю, с чего же начинать распутывать сей клубок медицинских странностей и загадок, загоняющих нас в угол!
День, кажется, на третий мне на домашний телефон позвонил главный инженер, мой непосредственный начальник. Надо сказать, порядочный и интереснейший человек. И толковейший специалист, достойнейший всякого уважения, но об этом как-нибудь потом. Вот смысл его обращения ко мне, начавшегося с усмешки:
– Здравствуй, Сергей Петрович! Тебе что же, вдали от работы никак не отдыхается? – он засмеялся, не давая мне ответить. – Говорил же тебе, учись отдыхать на работе! Например, у наших славных девчат! Им безразлично, что работать, что отдыхать! Они и тебя по приезду из санатория мгновенно обнаружили… Вот, судачат теперь, будто ты женился! И даже доложили мне, на ком! Если это правда, то я искренне за тебя рад! Обоих вас от души поздравляю! На мой взгляд, чудесная девушка! Замечательная! Просто, золото! Да и с налогом за бездетность давно пора тебе кончать! Свадьбу-то ты намерен проводить?
– Станислав Николаевич, мы же до сих пор и заявления не подали, всё как-то некогда! – удалось вставить мне. – Но между нами всё решено и будет исполнено твёрдой рукой! Широко и весело! Уже, считай, что тебя пригласили. Конечно же, вместе с супругой!
– Рад это слышать! А я уж думал, придется в узком кругу – ты же у нас шумных мероприятий всегда избегал. Ну, ладно, еще раз поздравляю от души! Ах, да! Остался вопросик: тут меня из общежития женского разыскали… Вернее, они тебя разыскивали… А еще точнее, твою Светлану. Говорят, что ей в поликлинику районную надо зайти поскорее, отметиться, что ли? Сам разберешься! Вот и всё! Отдыхай! Ведь у вас еще дней десять осталось, так? Если помощь понадобится, ты на себя всё не замыкай! – проявил он свойственную ему заботу о подчиненных.
Глава 8
Из поликлиники, куда мы направились, конечно же, вдвоём, чтобы не расставаться ни на минутку, ты вышла в подавленном недоумении:
– Вот… Они меня на какой-то учет поставили… Теперь, сказали, надо в онкологический диспансер… – твои губы дрогнули, но ты справилась. – Они что там, с ума все посходили? Мне уже операцию сделали… И в больнице не предупреждали, будто потом куда-то надо… Опять напутали, что ли! Или им из санатория что-то переслали, вот в поликлинике и отрабатывают, а мне-то оно зачем? Ну их, Серёжка! Никуда не пойдем! Ерунда какая-то! Только отпуск на них истратили напрасно! И без моря остались!
На учет нас всё же поставили. И даже убедили сделать внутреннюю радиотерапию. Для тебя, я помню, это было крайне мучительно физически, да и продолжалось очень долго. На несколько дней ты оказалась оторванной от меня и от жизни этим жутким медучреждением. Но самое главное и отвратительное вершилось в нем самом. Нас взяли в такой оборот, что не на шутку встревожили своей основательностью и окончательно лишили покоя. Сразу создалось впечатление, будто вырваться из этой больницы и ситуации, столь угрожающей нам, но совершенно непонятной, когда нам всё окончательно надоест, просто так не получится. Иначе говоря, мы потеряли свободу принятия решений и свободу действий, что нами было воспринято, если не трагически, то крайне болезненно.
С тех пор мы стали постоянно бояться чего-то жуткого, приближающегося к нам незаметно, и этот страх сразу лег тяжелым камнем на наши души, вернее, на нашу общую, как мы ее теперь воспринимали, душу. Страх принялся давить на тебя днем и ночью, а потом, в равной степени, и на меня, не позволяя заниматься ничем насущным.
Мы совсем забыли, что еще пребываем в отпуске, который по сути своей стал нашим медовым месяцем. Пусть мы свои отношения пока официально и не закрепили, но собирались сделать это в ближайшее время, и сами уже чувствовали бы себя полноценными и счастливейшими супругами, если бы вся эта больничная кутерьма не заставила нас совсем забыть о предстоящем торжестве.
В вопросах лечения ты оказалась не такой уж покладистой, что отмечали в разговорах со мной и некоторые врачи, имевшие, как я полагал, намерение через меня воздействовать на тебя. Ты постоянно возмущалась:
– Что вы со мной делаете? Зачем это? Какой мне поставили диагноз, ведь меня уже прооперировали. Зачем мне ваша химиотерапия? Вы объясните мне толком, что происходит? Я к вам в качестве подопытного кролика направлена, что ли? Почему от меня всё скрываете? Зачем я вам понадобилась? Вы же мне, вот это точно, совсем не нужны! Я отказываюсь вам подчиняться! Перестаньте же меня мучить немедленно! Либо объясните, что происходит, либо выписывайте!
А когда тебе, один на один, в достаточно щадящих выражениях стали объяснять, что именно происходит с тобой, что ты не совсем здорова, что тебе обязательно требуется специальное и срочное лечение, ты вызывающе смеялась, и утверждала, будто они опять всё напутали и теперь напрасно делают тебе какие-то ненужные и мучительные процедуры.
Ты требовала, чтобы они переделали все снимки и анализы, заново сделали эту самую биопсию, потому что они сами всё перепутали и теперь боятся в этом сознаться. Потому здесь тебя не лечат, а калечат, опираясь на историю болезни совершенно другой несчастной женщины! Просто надо всё заново проверить, и тогда справедливость восстановится! Зачем же мучить людей, зачем их так расстраивать, даже пугать, если вы сами ни в чём не уверены!
Я был у тебя, то есть, в том жутком по своей сути диспансере, всякий божий день. Я сидел в ожидании там, где только допускалось: немного в приемной, немного во внутреннем дворике, куда меня пускали в порядке исключения, немного с тобой в палате.
Остальное время я слонялся где-то рядом с больницей, поскольку мне всё же требовалось чем-то питаться, чем-то занимать свои мозги, а еще вернее, изгонять из них самые скверные предчувствия, которые меня всё плотнее обволакивали. В общем, я был не я. И только на ночь уходил в нашу общую, но полупустую берлогу.
Я уже плохо соображал и совсем не понимал, что с нами будет дальше. Несмотря на это, я знал несколько больше, нежели ты, поскольку однажды, когда я, распаляясь от полной неопределенности нашего положения, категорично потребовал, чтобы лечащий врач или кто у них там еще в наличии, рассказали мне начистоту, что, в конце концов, происходит с моей супругой, меня поставили в известность.
Видимо, та милая женщина в белом халатике, приятной наружности и вполне доброжелательно ко мне настроенная, не первый раз брала на себя тяжелую миссию, буквально разрушающую на ее глазах не только представление людей об их предстоящей жизни, но и саму эту жизнь. Может, она и сама от этого страдала, особенно в таком раздирающем душу случае, каким оказался наш. Да и кто не будет потрясён, если на его глазах разыгрывается трагедия совсем молодой и внешне цветущей женщины, которой необходимо помочь, весьма хочется помочь, но сделать это практически невозможно?