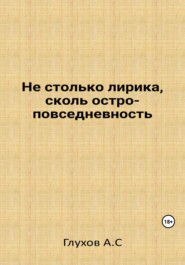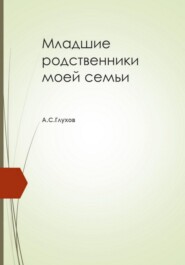По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мила и Юра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мила и Юра
Александр Сергеевич Глухов
…а когда узнал о моих литературных потугах, заговорщически подмигнул, потирая руки от предвкушения удачи и предложил поведать историю из жизни старого дома.
…
– Вот видишь, не «Ромео и Джульетта», а тоже история любопытная.
Александр Глухов
Мила и Юра
Как называлась прежде улица Октябрьская в Егорьевске я, к сожалению, не знаю, а поскольку никаких документальных свидетельств у меня нет, то придется отложить экскурс в давнюю историю и рассказать читателям относительно свежую, длящуюся с середины 20 века, до конца второго десятилетия века 21-го.
Улица протянулась с северо-запада на юго-восток параллельно главной в городе – Советской, от улицы Профсоюзной, ныне Бардыгинской, до Рязанской по правобережью речки Гуслицы. На Профсоюзной она упирается в старое здание РОСН, а после Рязанской обрывается у входа на стадион «Мещера», прежде именуемый «Текстильщик». Из главных объектов улицы выделяются: гимназия (бывшая школа №6), тюрьма, автоинспекция, туберкулезная больница, старая площадка завода АТИ и девятиэтажка в самом конце улицы, знаменитая скорее жильцами, чем самим зданием.
На левой стороне улицы, в непосредственной близости от ресторана «Егорьевск» и городской гостиницы, ветшает и разрушается деревянный восьмиквартирный дом, в котором никто давно не живёт, но у него есть хозяева, разъехавшиеся по городам и весям Подмосковья. Лишь один абориген лет шестидесяти регулярно наведывается туда, делая вид занимающегося благоустройством ветхого жилища старикана. Когда он попался мне на глаза в пятый раз, я не выдержал и подошёл из любопытства. Он охотно разговорился, сказал, что его зовут Лёха, а когда узнал о моих литературных потугах, заговорщически подмигнул, потирая руки от предвкушения удачи и предложил поведать историю из жизни старого дома. Говорил он долго и витиевато, смешивая главные и второстепенные детали, часто повторялся, отвлекался на посторонние темы и анекдоты, обильно сыпал словами ненормативной лексики. Частично я был знаком с этой историей из первых уст, но Лёха уснащал её такими деталями, что я заслушался и теперь уже в моей голове смешались оба рассказа. Мне оставалось только записать, избегая матерных присловий Лёхи и особо пикантных подробностей. Не знаю, что получится из моей затеи, но я постараюсь передать рассказ максимально правдоподобно, с добавлением общего фона жизни страны, мира, а ещё, конечно, жизни самого Егорьевска.
Населявшие дом восемь семей ничем выдающимся не выделялись среди прочих жителей города, разве что пониженной скандальностью. Дом населяли педагоги, медики и руководители полусредней руки. Жил, правда, в четвёртой квартире пьяница-шофёр, но не долго, он бросил супругу, преподавательницу географии с двумя малолетними детьми, а сам сбежал с кладовщицей продуктовой базы.
В квартире номер восемь обитала семья кляузников, ещё тех, несгибаемых сталинских кляузников. Детей у них не завелось, так и хочется добавить: «к счастью», а то неизвестно кого воспитали бы эти, так называемые педагоги. В августе 1968 года кляузная семейка накатала «телегу» в милицию и горком партии на электрика дядю Колю из первой квартиры. Электрики той поры слыли универсалами, а зачастую являлись ими, запросто разбираясь в схемах телевизоров, радиоприёмников, магнитофонов и прочей бытовой техники, умели устранять практически любую неполадку. Чиня телевизор «Рекорд», дядя Коля случайно коснулся наконечника высоковольтного провода, ведущего к кинескопу, в котором напряжение превышает 15000 вольт. Вилка из розетки была выдернута, но для болезненного удара хватило остатков импульса. Такое напряжение не убивает из-за малой силы тока, но лупит весьма болезненно, аналогично проводу от магнето. Электрик вскричал:
– Ай, тудыт твою мать! И стоило туда лезть? Такое гадство получилось!
Семейка кляузников возвращалась в это время из магазина и услышала крики незадачливого ремонтника. Оба притормозили, а пока муж держал сумки, востря уши, его жена прилипла к двери, стараясь не пропустить ни звука. Супруга же дяди Коли, не подозревая о коварстве соседей, ехидно поддразнила мужа:
– Ты в ООН ещё пожалуйся, петицию подай.
Педагоги анонимщики сдуру решили, что речь идёт о вводе войск Варшавского договора в Чехословакию и состряпали доносец в органы власти и правопорядка. Но, то ли на местах руководство более лояльно относится к народу, а может халатности хватает, только к чести егорьевской власти, а её очень немного, ход делу не дали и ещё пригрозили клеветникам строгим выговором по партийной линии. Кляузники разобиделись и вскоре съехали в соседний Шатурский район. Дальнейшие их следы затерялись, но, при желании, легко можно обнаружить в архивах соседнего района итоги их неприглядной деятельности.
На первом этаже квартиры номер два, вела образцово-показательную жизнь семья Бревновых. Глава семейства – крупногабаритный мужчина Сергей Иванович Бревнов входил в пятерку высших руководителей леспромхоза. С тех пор, когда старший лейтенант Бревнов, между прочим – член партии, демобилизовался в возрасте двадцати одного года из армии, а произошло это событие в 1946 году, то стал довольно быстро продвигаться по партийно-хозяйственной линии. Сам он происходил из Нижегородской губернии, – тогда – Горьковской области. Во время войны он списался с егорьевской учительницей русского языка и литературы Аней Паниной и, возвращаясь домой, решил её навестить. Реальность превзошла его самые смелые предположения, и он прибавил к населению Егорьевска ещё одну единицу, оставшись тут навсегда. В следующем 1947 году родился его первенец Александр, а сам Сергей Иванович, неожиданно даже для него, возглавил партийную организацию райпотребсоюза. Тогда же семья въехала на освободившуюся жилплощадь бывшего директора школы, который в чем-то провинился то ли перед местными, то ли перед высшими властями и сгинул с егорьевского горизонта в неизвестном направлении. Семья росла, вскоре появилась дочь Галя и младший сын Юра. Неизвестно, был ли Сергей Иванович Бревнов истинным правоверным коммунистом, но к партии он относился с пиететом, хотя бы за то, что она давала ему определенную власть над людьми. Вряд ли он, с его семиклассным образованием, вникал в тонкости марксизма-ленинизма, но нос держал всегда по ветру и колебался вместе с линией партии. Следует отдать должное: в быту он держался чуть ли не образцово-показательно не только с соседями, а даже с собственными детьми. Злые языки, однако, утверждали, что на службе он вел тихушно-аморальный образ жизни, и редкая из дам в разных организациях, где он работал, не побывала в его объятиях. Впрочем, сплетни часто преувеличивают…
Супругу его Анну Ивановну никогда не видели кричащей, скандалящей по пустяку, даже хохочущей без удержу. Характер её был настолько ровный, что даже с собственными детьми она старалась не проявлять излишних эмоций. Дети воспитывались в величайшем почтении к советской власти и той, залитой сладкой патокой картине жизни в стране. Не разрушали почтения даже тумаки, не так уж и редко получаемые старшим и младшим братьями от не совсем сознательных ровесников и ребят постарше. В советской прессе и книгах эти негативные явления (драки, кражи, разбой и пр.) стыдливо называли пережитком прошлого. Впрочем, не так уж мрачно смотрелись те годы. Как показало время, угнетаемые и побиваемые часто приспосабливались, приобретали навыки терпеливости, хитрости и лавирования, в зависимости от обстоятельств. Многие из них впоследствии сделали карьеру по линии комсомола, партийных и хозяйственных органов…
В 1969 году, осенью, вернулся из армии старший сын Бревновых Александр, отслуживший два года на Дальнем Востоке в полку реактивной артиллерии, вооруженным недавно введенными в эксплуатацию установками «Град». Те «Грады» стояли ещё на тихоходных, но проходимых «Колунах» – автомобилях ЗИЛ-157.
Бравому старшему сержанту, заместителю командира взвода, необычайно повезло. Вместо трёх лет службы в сухопутной армии, стали служить всего два года, а ещё, его непосредственно не коснулись события на острове Даманский, хотя его часть дислоцировалась недалеко от места события. Полк подняли по тревоге, уже готовились выезжать к месту боевых действий, как пришла команда отбой.
Ко времени возвращения домой старшего брата, Галя – средний ребёнок Бревновых училась в педагогическом техникуме города Орехово-Зуево, а Юра пошёл в десятый класс школы близ старой мэрии Егорьевска, называемой в те времена горисполкомом. Его перевели в неё специально – она считалась лучшей в городе, а школа № 6 на октябрьской улице числилась в числе аутсайдеров и не могла, по мнению Анны Ивановны подготовить младшего сына к поступлению в институт.
Юра вырос чуть выше старшего брата. Он, первым в семье вымахал за 180 сантиметров, полностью копируя шестифунтовый рост своего любимого героя Натти Бампо из знаменитой пенталогии Фенимора Купера. В отличии от отца и брата он не испытывал предубеждения к низам простонародья и частенько приводил домой одного, а то и двух ближайших друзей-школьников, поиграть в теннис. В большой комнате их трёхкомнатной квартиры стоял длинный стол, не совсем теннисный и не совсем прямоугольный, чуть зауженный по торцам и с лёгкими закруглениями углов, но с настоящей сеткой. Вдоль стола располагался придвинутый к стене диван и, почти впритык к нему, книжный шкаф пятидесятых годов желто-коричневатого цвета. С другой стороны дивана, ближе к окну, в дальнем углу налево от входа, на хлипкой этажерке громоздился крупногабаритный телевизор «Горизонт», вечно накрытый кружевным покрывалом. Старший Бревнов разрешал его включать лишь после семи часов вечера. Об этой, весьма деспотичной странности, перешептывались соседи.
К приводам домой посторонних в семье относились с терпеливой брезгливостью. Дело было не в том, что они являлись чужаками, а том, что друзья Юры происходили исключительно из малообеспеченных полунищих семей. Одно время родители опасались втягивания младшего сына в неблагополучную компанию, но друзья оказались людьми вполне приличными, и к тому же хорошо учились в школе. Эти приятели не раз выручали Юру, спасая его от тирании «шакалов», рыщущих в школе и на улицах Егорьевска в поисках остатков мелочи в карманах встречных бедолаг. В шестидесятые-семидесятые годы эпидемия «шакализма» буквально охватила Егорьевск, да и другие малые и большие города страны. По слухам, это явление процветало и раньше. Судьба мелких гопников, как правило, оказалась весьма печальной. Автор наблюдал за их судьбой в течении нескольких десятилетий и сделал удручающие выводы. Впрочем, жизненный путь антигопников, которые вели с «шакалами» беспощадную войну с начала восьмидесятых годов 20 века, справедливости ради, тоже следует признать весьма трагичным, но о них расскажу потом, когда повествование подойдёт к временам антишальной войны…
В квартире номер семь, на втором этаже, в двушке, жили мать и дочь Железновы. Совсем недавно семья состояла из пяти человек, но глава семейства скончался в середине шестидесятых, от полученных ещё в войну ран, а старшая дочь Нина и единственный сын Андрей обзавелись собственными семьями. Нина родилась ещё в предвоенный 1940-ой год. Её отец погиб под Понырями в разгар Курской битвы. Мать повторно вышла замуж и родила ещё двоих детей: Андрея и Людмилу.
Нина закончила библиотечный техникум, была распределена в город Бронницы, в котором прожила два года, пока случайно не познакомилась в электричке с весёлым студентом Федей, возвращающимся из Загорнова, где они половину осени трудились на уборке картошки и свёклы. Это сейчас разбалованные студенты, особенно платных вузов, не знают такой повинности. Раньше, даже школьники старших и средних классов вовсю использовались на прополке летом и на уборке урожая осенью. Трудились, конечно, плохо, относясь к работе, как к каторге, краткосрочной, но неизбежной…
Феде настолько понравилась юная черноволосая девица невысокого роста, красивая, складненькая, что он проявил настойчивость и выпросил телефонный номер библиотеки. Звонил он часто, а под новый год заявился к ней в общежитие, где умудрился остаться на ночь.
Вскоре они поженились, и Нина перебралась к мужу в Москву, на улицу Ольховскую, что находится в непосредственной близи от Казанского вокзала, метрах в пятидесяти от дальнего края последней платформы для электричек.
Родной брат Людмилы, он же единоутробный брат Нины, закончил МАИ и, перед распределением на Байконур, успел обзавестись деревенской женой родом из Зайцево, что расположено в девятнадцати километрах к югу от Егорьевска, на левом, высоком и холмистом берегу речки Щеленки.
Младшая дочь Людмила училась как раз в одном классе с Юрой Бревновым. Собственно, они знали друг друга ещё с малоосмысленного возраста и, даже в младшую группу детского сада пошли вместе. У них давно сложились ровные дружеские отношения. Кстати, довольно редко случается, что разнополые личности, с раннего детства живущие рядом, не утрачивают интерес друг к другу и не наскучивают до полной апатии. У Юры и Людмилы имелось пока лишь одно разногласие: она требовала называть себя Милой, а он не поддавался и упрямо именовал её Людой.
Отдельно следует заметить: Людмилу тщательно оберегали от сомнительных знакомств с молодыми людьми, а Юра был единственным из посторонних ребят, вхожим в квартиру Железновых. Ему, как юноше примерного поведения, вполне доверяла мать Людмилы Анна Алексеевна, преподаватель истории в школе номер шесть. Между собой обе педагогини и Анна Ивановна и Анна Алексеевна держались с подчеркнутой предупредительной вежливостью, но близко не дружили.
С тех пор, как Андрей женился, Людмила стала частенько приезжать по выходным дням к новым родственникам в Зайцево. Свояченица Андрея, тоже Людмила, была лишь на пять месяцев младше Милы, то есть почти ровесница, и они подружились. Автобусного маршрута на Троицу тогда ещё не существовало, а приходилось ехать маршрутом на Старое, или Лелечи, сходить на остановке Кузьминки, после чего топать два километра тропинкой через лес и два поля.
Летняя деревенская жизнь очень нравилась Миле своей простотой и неистребимой весёлостью. Пару раз она приглашала с собой Юру; он с удовольствием ехал, купался на плотине, почти у самого дома, но категорически отказывался оставаться на ночь в деревне. Странно, но к своим семнадцати годам они ещё ни разу не целовались. Вернее сказать, Юра не имел такого опыта вовсе, а Людмила ещё два года назад с удовольствием лобызалась с хулиганистым Чуркиным, по слухам, правнуком знаменитого в России разбойника дореволюционных лет Ивана Чуркина. В прошлом году она повторила опыт поцелуев с самонадеянным хорошистом параллельного класса Сашкой Дуюновым, но тот оказался слишком самовлюбленным нарциссидом и скоро их встречи прекратились///
Теперь стоит переключиться на короткое историческое отступление. Егорьевск получил статус города в 1778-ом году, а до этого именовался: село Высокое. Дата основания затерялась в памяти, но известно, что Василий Васильевич Тёмный, отец основателя Русского государства Ивана Третьего, передал село Высокое Чудову монастырю в Москве, как тогда говорилось: приписал. Потом лет сто пятьдесят ничего выдающегося не происходило, за исключением случая растления трёх девиц местным разбойником Петрушкой, по прозвищу Амбарный Замок. Петрушку этого запорол вилами папаша растленных, а дочерей он просто выпорол вожжами.
Следующее событие относится к времени правления Василия Шуйского. Тогда князь Дмитрий Пожарский разгромил польскую рать в селе Высоком, на берегу речки Гуслицы. Даже к созданию русского флота Егорьевск имеет хоть и не прямое, но, всё-таки, отношение. Первый российский корабль «Орёл» выстроили и спустили на воду в селе Дединово, которое позднее вошло в состав Егорьевского уезда. А ещё в том же Дединово формировалось егорьевское уездное ополчение, которое ополчилось на Наполеона и сыграло значительную роль в разгроме захватчиков. Ополченцы захватили столько пленных, что после войны 1812 года самые никчемные дворяне и местные помещики обзавелись домашними учителями французами.
В середине 19 века Егорьевск стал превращаться в крупный промышленный центр России, обогнав по населению и экономике большинство городов вокруг Москвы, включая губернские. Например, ВВП Егорьевска к началу 20 века составлял 55% от ВВП всей Рязанской губернии, в состав которой тогда входил, включая саму Рязань. Захирел город при советской власти, когда был включен территориально в Московскую область и, постепенно, потерял 2/3 уездной площади. Его раздербанили по пяти соседним районам. Больше всего земель отошло с восточной стороны вновь созданному Шатурскому району. Немалые куски достались Орехово-Зуевскому, Воскресенскому и Коломенскому районам, а крайний юг, включая Дединово, перебросили аж в Луховицкий район.
Егорьевская земля дала ряд известных личностей. В первую очередь это президент Академии художеств Игорь Грабарь и писатель-сказочник Эдуард Успенский, отличавшийся скандальным и склочным характером. Есть ещё генералы, заслуженные артисты и спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Егорьевцем был ближайший соратник Дзержинского, Менжинского и Ягоды, высокопоставленный сотрудник ЧК, ГПУ. НКВД Благонравов, судя по фамилии, выходец из семьи священника. Знаменитый футболист первых послевоенных лет Василий Карцев, а также известный нападающий «Спартака» Егор Титов – звезда футбола 90-х годов 20 века тоже уроженцы наших мест. К ним следует добавить боксера Вячеслава Лемешева, хоккеиста Мишакова, спринтершу Марину Титову (Жирову), борцов вольного стиля, физика, доктора наук Бориса Семеновича Ксенофонтова, с которым автор знаком лично с 60-х годов 20 века и многих других.
К сожалению, автор, в момент написания данного опуса, находится довольно далеко от родного города, а сведения черпает из собственной памяти. В былые времена я бы с удовольствием воспользовался помощью бывшей директрисы краеведческого музея Эстер Яковлевны, а с ней я находился в приятельских отношениях, или с помощью местного историка энтузиаста Смирнова, но они уже скончались. Есть и другие знающие люди, но с преподавательницей истории, победительницей первого конкурса педагогов более чем тридцатилетней давности Анной Леонидовной Мартыновой у меня отсутствуют контакты, а хромой кандидат исторических наук считает, что задаваемые мной вопросы слишком странны и не носят, как он выражается, стратегического характера. Его, например, покоробила моя заинтересованность второстепенным случаем, когда городской голова Никифор Михайлович Бардыгин и знаменитый архитектор Каминский (дело происходило в 19 веке), после изрядного подпития, остались ночевать в доме свояченицы городского головы. Утром оба были изгнаны. Причём, у Бардыгина оказалась рассечена губа, а у Каминского отсвечивал серьёзный фингал под глазом (по непроверенным слухам – левым). Хромого кандидата мой вопрос возмутил:
– Зачем вам понадобились исторические сплетни?
В ответ я пожал плечами и промолчал. Оно, конечно, понятно, что никаких глобальных исторических последствий случай этот не повлёк. Однако, как и всякому литератору, мне хотелось бы знать подоплеку события. Возможно, они подрались из-за свояченицы, но вполне вероятны и другие варианты. Например: полезли спьяну к даме, а она была могучего сложения и накостыляла обоим. Но вероятен и следующий вариант: два деятеля даму обнадёжили, да спьяну уснули полумёртвым сном, за что получили на орехи…
В Егорьевске, к концу 1969 года, имелись два магнитофона на батарейках известной марки «Спидола». Может быть их количество и превышало пару, но остальные никто не видел, а с этими, чуть ли не ежевечерне, передвигались две компании по улице Советской от клуба имени Конина до горпарка и обратно. Группы меломанов никогда не двигались параллельными курсами, а исключительно в разных направлениях и по разным сторонам улицы. Один из престижных магнитофонов принадлежал как раз нашей героине Людмиле Железновой и был подарен ей в складчину братом Андреем и мужем сестры Федей за второе место в областных соревнованиях по спортивной гимнастике. Она никому ценный аппарат не доверяла, сколько бы её не уговаривали, разве что разрешала нести его в собственном присутствии…
В середине декабря, когда народ поголовно готовится к встрече нового года, а в магазинах развешивают праздничные висюльки Людмила зазвала Юру к себе на второй этаж, с целью охмурить его на рождественскую поездку в Зайцево с обязательной ночевкой. Стремительно догорал короткий день начала зимы. Из открытой форточки доносились звуки ругани и звон разбитого стекла. Близ ресторана, на Советской, разгоралась очередная драка. До дома от места побоища было не менее двухсот метров. Раздалась властная милицейская трель, но как-то сразу оборвалась. Анна Алексеевна Железнова недовольно передернула плечами:
– Опять у ресторана безобразят. Дожили, на Советской улице того гляди ограбят или изобьют. Куда смотрит милиция? Ты, Юра, почти взрослый, надеюсь, хотя бы не пойдёшь по стопам отпетых хулиганов. Ох, сколько же в тюрьмы народа попадает…
– Мама, он не такой, – успокоила родительницу Людмила, – ему там делать нечего. Вот и свисток милицейский замолчал, наверное, всех похватали.
На самом деле никого не похватали, а случился выход в свет, по-другому – хулиганствующий дебют «Француза». Не того Серёги «Француза», победителя открытого первенства США по вольной борьбе в полутяжелом весе, а его не менее известного в егорьевских кругах семидесятых годов 20 века папани. Со слов очевидца, недавно демобилизованного толстячка-водителя Володи Власова, произошло следующее. Два местных полукриминальных шустряка, молодых, но уже заимевших определённый авторитет, по кличкам «Ермак» и «Ленин», решили проучить юного сопляка «Француза» за непочтительное к ним поведение в ресторане. Тот ресторан располагался на улице Советской в полуподвальном помещении, где впоследствии предприниматель Зимин построил магазин «Товары для дома». Так вот, два ухаря пригласили, вернее настойчиво предложили юному хулигану выйти с ними на свежий воздух. Декабрьский вечерний воздух оказался избыточно свеж, а сугроб, в котором очутились секунд через десять местные деловые, вообще холодным. Увы, понты не равны физической силе и ловкости. «Француз» их легко разметал по наваленным дворником снежным кучам. И худо бы им пришлось, но мимо проезжал знаменитый в те годы, чуть ли не единственный в городе гаишник Володя Шилкин, детина здоровенный и не особо злобный. О его способности выпить семь бутылок водки ходили легенды по всему району. Самоуверенный Володя, преисполненный властными амбициями, узрев драку, остановил милицейский «Урал» с коляской, вальяжно с него слез и во всю мощь лёгких дунул в свисток.
Времена были свисткобоязненные. От милицейской трели моментально унималась любая буза, а народ, на всякий случай, бросался врассыпную. В данном случае этого не произошло. Прирождённый карбонарий «Француз» и не пытался бежать. Он крюком правой отправил контуженного гаишника на мёрзлый асфальт, а служивый едва не проглотил психически усмиряющий инструмент.
Невозмутимый юный хулиган, ровесник Юры и Милы, преспокойно ушёл в сторону обувной фабрики, к ближайшей автобусной остановке. «Ермак» с «Лениным», до этого опасливо лежащие в сугробе, быстро вскочили на ноги и стали услужливо поднимать Володю Шилкина. Тот долго мычал, мотая головой, словно бык, получивший удар кувалдой в лоб, потом выплюнул свисток.
Оставшийся вечер деловые поили могучего сотрудника ГАИ, компенсируя его контузию, а заодно косвенно благодаря за спасение. Они понимали: «Француз» убивать бы их не стал, но покалечить мог изрядно. Лично они юного дебошира не знали, вернее «Ленин» встречал его пару раз, поскольку жил неподалёку, а «Ермак» вообще встретился с «Французом» впервые. Чтобы сгладить обстановку, дельцы заодно компенсировали ресторану разбитое стекло.
Володя Шилкин остался довольным ресторанным вечером. Да, плохо работала челюсть и голова, зато сколько водки и коньяка выпито!
Повествование о знаменательном событии я слушал много лет спустя от очевидца – Володи Власова, когда он работал в ООО «Кедр», где я трудился начальником производства, а чуть раньше, от самой Людмилы. Кстати, Володе, водителю с тридцатипятилетним стажем, принадлежит юмористический каламбур на тему известной в своё время песни:
Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть,
Резкий поворот и ураган.
Александр Сергеевич Глухов
…а когда узнал о моих литературных потугах, заговорщически подмигнул, потирая руки от предвкушения удачи и предложил поведать историю из жизни старого дома.
…
– Вот видишь, не «Ромео и Джульетта», а тоже история любопытная.
Александр Глухов
Мила и Юра
Как называлась прежде улица Октябрьская в Егорьевске я, к сожалению, не знаю, а поскольку никаких документальных свидетельств у меня нет, то придется отложить экскурс в давнюю историю и рассказать читателям относительно свежую, длящуюся с середины 20 века, до конца второго десятилетия века 21-го.
Улица протянулась с северо-запада на юго-восток параллельно главной в городе – Советской, от улицы Профсоюзной, ныне Бардыгинской, до Рязанской по правобережью речки Гуслицы. На Профсоюзной она упирается в старое здание РОСН, а после Рязанской обрывается у входа на стадион «Мещера», прежде именуемый «Текстильщик». Из главных объектов улицы выделяются: гимназия (бывшая школа №6), тюрьма, автоинспекция, туберкулезная больница, старая площадка завода АТИ и девятиэтажка в самом конце улицы, знаменитая скорее жильцами, чем самим зданием.
На левой стороне улицы, в непосредственной близости от ресторана «Егорьевск» и городской гостиницы, ветшает и разрушается деревянный восьмиквартирный дом, в котором никто давно не живёт, но у него есть хозяева, разъехавшиеся по городам и весям Подмосковья. Лишь один абориген лет шестидесяти регулярно наведывается туда, делая вид занимающегося благоустройством ветхого жилища старикана. Когда он попался мне на глаза в пятый раз, я не выдержал и подошёл из любопытства. Он охотно разговорился, сказал, что его зовут Лёха, а когда узнал о моих литературных потугах, заговорщически подмигнул, потирая руки от предвкушения удачи и предложил поведать историю из жизни старого дома. Говорил он долго и витиевато, смешивая главные и второстепенные детали, часто повторялся, отвлекался на посторонние темы и анекдоты, обильно сыпал словами ненормативной лексики. Частично я был знаком с этой историей из первых уст, но Лёха уснащал её такими деталями, что я заслушался и теперь уже в моей голове смешались оба рассказа. Мне оставалось только записать, избегая матерных присловий Лёхи и особо пикантных подробностей. Не знаю, что получится из моей затеи, но я постараюсь передать рассказ максимально правдоподобно, с добавлением общего фона жизни страны, мира, а ещё, конечно, жизни самого Егорьевска.
Населявшие дом восемь семей ничем выдающимся не выделялись среди прочих жителей города, разве что пониженной скандальностью. Дом населяли педагоги, медики и руководители полусредней руки. Жил, правда, в четвёртой квартире пьяница-шофёр, но не долго, он бросил супругу, преподавательницу географии с двумя малолетними детьми, а сам сбежал с кладовщицей продуктовой базы.
В квартире номер восемь обитала семья кляузников, ещё тех, несгибаемых сталинских кляузников. Детей у них не завелось, так и хочется добавить: «к счастью», а то неизвестно кого воспитали бы эти, так называемые педагоги. В августе 1968 года кляузная семейка накатала «телегу» в милицию и горком партии на электрика дядю Колю из первой квартиры. Электрики той поры слыли универсалами, а зачастую являлись ими, запросто разбираясь в схемах телевизоров, радиоприёмников, магнитофонов и прочей бытовой техники, умели устранять практически любую неполадку. Чиня телевизор «Рекорд», дядя Коля случайно коснулся наконечника высоковольтного провода, ведущего к кинескопу, в котором напряжение превышает 15000 вольт. Вилка из розетки была выдернута, но для болезненного удара хватило остатков импульса. Такое напряжение не убивает из-за малой силы тока, но лупит весьма болезненно, аналогично проводу от магнето. Электрик вскричал:
– Ай, тудыт твою мать! И стоило туда лезть? Такое гадство получилось!
Семейка кляузников возвращалась в это время из магазина и услышала крики незадачливого ремонтника. Оба притормозили, а пока муж держал сумки, востря уши, его жена прилипла к двери, стараясь не пропустить ни звука. Супруга же дяди Коли, не подозревая о коварстве соседей, ехидно поддразнила мужа:
– Ты в ООН ещё пожалуйся, петицию подай.
Педагоги анонимщики сдуру решили, что речь идёт о вводе войск Варшавского договора в Чехословакию и состряпали доносец в органы власти и правопорядка. Но, то ли на местах руководство более лояльно относится к народу, а может халатности хватает, только к чести егорьевской власти, а её очень немного, ход делу не дали и ещё пригрозили клеветникам строгим выговором по партийной линии. Кляузники разобиделись и вскоре съехали в соседний Шатурский район. Дальнейшие их следы затерялись, но, при желании, легко можно обнаружить в архивах соседнего района итоги их неприглядной деятельности.
На первом этаже квартиры номер два, вела образцово-показательную жизнь семья Бревновых. Глава семейства – крупногабаритный мужчина Сергей Иванович Бревнов входил в пятерку высших руководителей леспромхоза. С тех пор, когда старший лейтенант Бревнов, между прочим – член партии, демобилизовался в возрасте двадцати одного года из армии, а произошло это событие в 1946 году, то стал довольно быстро продвигаться по партийно-хозяйственной линии. Сам он происходил из Нижегородской губернии, – тогда – Горьковской области. Во время войны он списался с егорьевской учительницей русского языка и литературы Аней Паниной и, возвращаясь домой, решил её навестить. Реальность превзошла его самые смелые предположения, и он прибавил к населению Егорьевска ещё одну единицу, оставшись тут навсегда. В следующем 1947 году родился его первенец Александр, а сам Сергей Иванович, неожиданно даже для него, возглавил партийную организацию райпотребсоюза. Тогда же семья въехала на освободившуюся жилплощадь бывшего директора школы, который в чем-то провинился то ли перед местными, то ли перед высшими властями и сгинул с егорьевского горизонта в неизвестном направлении. Семья росла, вскоре появилась дочь Галя и младший сын Юра. Неизвестно, был ли Сергей Иванович Бревнов истинным правоверным коммунистом, но к партии он относился с пиететом, хотя бы за то, что она давала ему определенную власть над людьми. Вряд ли он, с его семиклассным образованием, вникал в тонкости марксизма-ленинизма, но нос держал всегда по ветру и колебался вместе с линией партии. Следует отдать должное: в быту он держался чуть ли не образцово-показательно не только с соседями, а даже с собственными детьми. Злые языки, однако, утверждали, что на службе он вел тихушно-аморальный образ жизни, и редкая из дам в разных организациях, где он работал, не побывала в его объятиях. Впрочем, сплетни часто преувеличивают…
Супругу его Анну Ивановну никогда не видели кричащей, скандалящей по пустяку, даже хохочущей без удержу. Характер её был настолько ровный, что даже с собственными детьми она старалась не проявлять излишних эмоций. Дети воспитывались в величайшем почтении к советской власти и той, залитой сладкой патокой картине жизни в стране. Не разрушали почтения даже тумаки, не так уж и редко получаемые старшим и младшим братьями от не совсем сознательных ровесников и ребят постарше. В советской прессе и книгах эти негативные явления (драки, кражи, разбой и пр.) стыдливо называли пережитком прошлого. Впрочем, не так уж мрачно смотрелись те годы. Как показало время, угнетаемые и побиваемые часто приспосабливались, приобретали навыки терпеливости, хитрости и лавирования, в зависимости от обстоятельств. Многие из них впоследствии сделали карьеру по линии комсомола, партийных и хозяйственных органов…
В 1969 году, осенью, вернулся из армии старший сын Бревновых Александр, отслуживший два года на Дальнем Востоке в полку реактивной артиллерии, вооруженным недавно введенными в эксплуатацию установками «Град». Те «Грады» стояли ещё на тихоходных, но проходимых «Колунах» – автомобилях ЗИЛ-157.
Бравому старшему сержанту, заместителю командира взвода, необычайно повезло. Вместо трёх лет службы в сухопутной армии, стали служить всего два года, а ещё, его непосредственно не коснулись события на острове Даманский, хотя его часть дислоцировалась недалеко от места события. Полк подняли по тревоге, уже готовились выезжать к месту боевых действий, как пришла команда отбой.
Ко времени возвращения домой старшего брата, Галя – средний ребёнок Бревновых училась в педагогическом техникуме города Орехово-Зуево, а Юра пошёл в десятый класс школы близ старой мэрии Егорьевска, называемой в те времена горисполкомом. Его перевели в неё специально – она считалась лучшей в городе, а школа № 6 на октябрьской улице числилась в числе аутсайдеров и не могла, по мнению Анны Ивановны подготовить младшего сына к поступлению в институт.
Юра вырос чуть выше старшего брата. Он, первым в семье вымахал за 180 сантиметров, полностью копируя шестифунтовый рост своего любимого героя Натти Бампо из знаменитой пенталогии Фенимора Купера. В отличии от отца и брата он не испытывал предубеждения к низам простонародья и частенько приводил домой одного, а то и двух ближайших друзей-школьников, поиграть в теннис. В большой комнате их трёхкомнатной квартиры стоял длинный стол, не совсем теннисный и не совсем прямоугольный, чуть зауженный по торцам и с лёгкими закруглениями углов, но с настоящей сеткой. Вдоль стола располагался придвинутый к стене диван и, почти впритык к нему, книжный шкаф пятидесятых годов желто-коричневатого цвета. С другой стороны дивана, ближе к окну, в дальнем углу налево от входа, на хлипкой этажерке громоздился крупногабаритный телевизор «Горизонт», вечно накрытый кружевным покрывалом. Старший Бревнов разрешал его включать лишь после семи часов вечера. Об этой, весьма деспотичной странности, перешептывались соседи.
К приводам домой посторонних в семье относились с терпеливой брезгливостью. Дело было не в том, что они являлись чужаками, а том, что друзья Юры происходили исключительно из малообеспеченных полунищих семей. Одно время родители опасались втягивания младшего сына в неблагополучную компанию, но друзья оказались людьми вполне приличными, и к тому же хорошо учились в школе. Эти приятели не раз выручали Юру, спасая его от тирании «шакалов», рыщущих в школе и на улицах Егорьевска в поисках остатков мелочи в карманах встречных бедолаг. В шестидесятые-семидесятые годы эпидемия «шакализма» буквально охватила Егорьевск, да и другие малые и большие города страны. По слухам, это явление процветало и раньше. Судьба мелких гопников, как правило, оказалась весьма печальной. Автор наблюдал за их судьбой в течении нескольких десятилетий и сделал удручающие выводы. Впрочем, жизненный путь антигопников, которые вели с «шакалами» беспощадную войну с начала восьмидесятых годов 20 века, справедливости ради, тоже следует признать весьма трагичным, но о них расскажу потом, когда повествование подойдёт к временам антишальной войны…
В квартире номер семь, на втором этаже, в двушке, жили мать и дочь Железновы. Совсем недавно семья состояла из пяти человек, но глава семейства скончался в середине шестидесятых, от полученных ещё в войну ран, а старшая дочь Нина и единственный сын Андрей обзавелись собственными семьями. Нина родилась ещё в предвоенный 1940-ой год. Её отец погиб под Понырями в разгар Курской битвы. Мать повторно вышла замуж и родила ещё двоих детей: Андрея и Людмилу.
Нина закончила библиотечный техникум, была распределена в город Бронницы, в котором прожила два года, пока случайно не познакомилась в электричке с весёлым студентом Федей, возвращающимся из Загорнова, где они половину осени трудились на уборке картошки и свёклы. Это сейчас разбалованные студенты, особенно платных вузов, не знают такой повинности. Раньше, даже школьники старших и средних классов вовсю использовались на прополке летом и на уборке урожая осенью. Трудились, конечно, плохо, относясь к работе, как к каторге, краткосрочной, но неизбежной…
Феде настолько понравилась юная черноволосая девица невысокого роста, красивая, складненькая, что он проявил настойчивость и выпросил телефонный номер библиотеки. Звонил он часто, а под новый год заявился к ней в общежитие, где умудрился остаться на ночь.
Вскоре они поженились, и Нина перебралась к мужу в Москву, на улицу Ольховскую, что находится в непосредственной близи от Казанского вокзала, метрах в пятидесяти от дальнего края последней платформы для электричек.
Родной брат Людмилы, он же единоутробный брат Нины, закончил МАИ и, перед распределением на Байконур, успел обзавестись деревенской женой родом из Зайцево, что расположено в девятнадцати километрах к югу от Егорьевска, на левом, высоком и холмистом берегу речки Щеленки.
Младшая дочь Людмила училась как раз в одном классе с Юрой Бревновым. Собственно, они знали друг друга ещё с малоосмысленного возраста и, даже в младшую группу детского сада пошли вместе. У них давно сложились ровные дружеские отношения. Кстати, довольно редко случается, что разнополые личности, с раннего детства живущие рядом, не утрачивают интерес друг к другу и не наскучивают до полной апатии. У Юры и Людмилы имелось пока лишь одно разногласие: она требовала называть себя Милой, а он не поддавался и упрямо именовал её Людой.
Отдельно следует заметить: Людмилу тщательно оберегали от сомнительных знакомств с молодыми людьми, а Юра был единственным из посторонних ребят, вхожим в квартиру Железновых. Ему, как юноше примерного поведения, вполне доверяла мать Людмилы Анна Алексеевна, преподаватель истории в школе номер шесть. Между собой обе педагогини и Анна Ивановна и Анна Алексеевна держались с подчеркнутой предупредительной вежливостью, но близко не дружили.
С тех пор, как Андрей женился, Людмила стала частенько приезжать по выходным дням к новым родственникам в Зайцево. Свояченица Андрея, тоже Людмила, была лишь на пять месяцев младше Милы, то есть почти ровесница, и они подружились. Автобусного маршрута на Троицу тогда ещё не существовало, а приходилось ехать маршрутом на Старое, или Лелечи, сходить на остановке Кузьминки, после чего топать два километра тропинкой через лес и два поля.
Летняя деревенская жизнь очень нравилась Миле своей простотой и неистребимой весёлостью. Пару раз она приглашала с собой Юру; он с удовольствием ехал, купался на плотине, почти у самого дома, но категорически отказывался оставаться на ночь в деревне. Странно, но к своим семнадцати годам они ещё ни разу не целовались. Вернее сказать, Юра не имел такого опыта вовсе, а Людмила ещё два года назад с удовольствием лобызалась с хулиганистым Чуркиным, по слухам, правнуком знаменитого в России разбойника дореволюционных лет Ивана Чуркина. В прошлом году она повторила опыт поцелуев с самонадеянным хорошистом параллельного класса Сашкой Дуюновым, но тот оказался слишком самовлюбленным нарциссидом и скоро их встречи прекратились///
Теперь стоит переключиться на короткое историческое отступление. Егорьевск получил статус города в 1778-ом году, а до этого именовался: село Высокое. Дата основания затерялась в памяти, но известно, что Василий Васильевич Тёмный, отец основателя Русского государства Ивана Третьего, передал село Высокое Чудову монастырю в Москве, как тогда говорилось: приписал. Потом лет сто пятьдесят ничего выдающегося не происходило, за исключением случая растления трёх девиц местным разбойником Петрушкой, по прозвищу Амбарный Замок. Петрушку этого запорол вилами папаша растленных, а дочерей он просто выпорол вожжами.
Следующее событие относится к времени правления Василия Шуйского. Тогда князь Дмитрий Пожарский разгромил польскую рать в селе Высоком, на берегу речки Гуслицы. Даже к созданию русского флота Егорьевск имеет хоть и не прямое, но, всё-таки, отношение. Первый российский корабль «Орёл» выстроили и спустили на воду в селе Дединово, которое позднее вошло в состав Егорьевского уезда. А ещё в том же Дединово формировалось егорьевское уездное ополчение, которое ополчилось на Наполеона и сыграло значительную роль в разгроме захватчиков. Ополченцы захватили столько пленных, что после войны 1812 года самые никчемные дворяне и местные помещики обзавелись домашними учителями французами.
В середине 19 века Егорьевск стал превращаться в крупный промышленный центр России, обогнав по населению и экономике большинство городов вокруг Москвы, включая губернские. Например, ВВП Егорьевска к началу 20 века составлял 55% от ВВП всей Рязанской губернии, в состав которой тогда входил, включая саму Рязань. Захирел город при советской власти, когда был включен территориально в Московскую область и, постепенно, потерял 2/3 уездной площади. Его раздербанили по пяти соседним районам. Больше всего земель отошло с восточной стороны вновь созданному Шатурскому району. Немалые куски достались Орехово-Зуевскому, Воскресенскому и Коломенскому районам, а крайний юг, включая Дединово, перебросили аж в Луховицкий район.
Егорьевская земля дала ряд известных личностей. В первую очередь это президент Академии художеств Игорь Грабарь и писатель-сказочник Эдуард Успенский, отличавшийся скандальным и склочным характером. Есть ещё генералы, заслуженные артисты и спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Егорьевцем был ближайший соратник Дзержинского, Менжинского и Ягоды, высокопоставленный сотрудник ЧК, ГПУ. НКВД Благонравов, судя по фамилии, выходец из семьи священника. Знаменитый футболист первых послевоенных лет Василий Карцев, а также известный нападающий «Спартака» Егор Титов – звезда футбола 90-х годов 20 века тоже уроженцы наших мест. К ним следует добавить боксера Вячеслава Лемешева, хоккеиста Мишакова, спринтершу Марину Титову (Жирову), борцов вольного стиля, физика, доктора наук Бориса Семеновича Ксенофонтова, с которым автор знаком лично с 60-х годов 20 века и многих других.
К сожалению, автор, в момент написания данного опуса, находится довольно далеко от родного города, а сведения черпает из собственной памяти. В былые времена я бы с удовольствием воспользовался помощью бывшей директрисы краеведческого музея Эстер Яковлевны, а с ней я находился в приятельских отношениях, или с помощью местного историка энтузиаста Смирнова, но они уже скончались. Есть и другие знающие люди, но с преподавательницей истории, победительницей первого конкурса педагогов более чем тридцатилетней давности Анной Леонидовной Мартыновой у меня отсутствуют контакты, а хромой кандидат исторических наук считает, что задаваемые мной вопросы слишком странны и не носят, как он выражается, стратегического характера. Его, например, покоробила моя заинтересованность второстепенным случаем, когда городской голова Никифор Михайлович Бардыгин и знаменитый архитектор Каминский (дело происходило в 19 веке), после изрядного подпития, остались ночевать в доме свояченицы городского головы. Утром оба были изгнаны. Причём, у Бардыгина оказалась рассечена губа, а у Каминского отсвечивал серьёзный фингал под глазом (по непроверенным слухам – левым). Хромого кандидата мой вопрос возмутил:
– Зачем вам понадобились исторические сплетни?
В ответ я пожал плечами и промолчал. Оно, конечно, понятно, что никаких глобальных исторических последствий случай этот не повлёк. Однако, как и всякому литератору, мне хотелось бы знать подоплеку события. Возможно, они подрались из-за свояченицы, но вполне вероятны и другие варианты. Например: полезли спьяну к даме, а она была могучего сложения и накостыляла обоим. Но вероятен и следующий вариант: два деятеля даму обнадёжили, да спьяну уснули полумёртвым сном, за что получили на орехи…
В Егорьевске, к концу 1969 года, имелись два магнитофона на батарейках известной марки «Спидола». Может быть их количество и превышало пару, но остальные никто не видел, а с этими, чуть ли не ежевечерне, передвигались две компании по улице Советской от клуба имени Конина до горпарка и обратно. Группы меломанов никогда не двигались параллельными курсами, а исключительно в разных направлениях и по разным сторонам улицы. Один из престижных магнитофонов принадлежал как раз нашей героине Людмиле Железновой и был подарен ей в складчину братом Андреем и мужем сестры Федей за второе место в областных соревнованиях по спортивной гимнастике. Она никому ценный аппарат не доверяла, сколько бы её не уговаривали, разве что разрешала нести его в собственном присутствии…
В середине декабря, когда народ поголовно готовится к встрече нового года, а в магазинах развешивают праздничные висюльки Людмила зазвала Юру к себе на второй этаж, с целью охмурить его на рождественскую поездку в Зайцево с обязательной ночевкой. Стремительно догорал короткий день начала зимы. Из открытой форточки доносились звуки ругани и звон разбитого стекла. Близ ресторана, на Советской, разгоралась очередная драка. До дома от места побоища было не менее двухсот метров. Раздалась властная милицейская трель, но как-то сразу оборвалась. Анна Алексеевна Железнова недовольно передернула плечами:
– Опять у ресторана безобразят. Дожили, на Советской улице того гляди ограбят или изобьют. Куда смотрит милиция? Ты, Юра, почти взрослый, надеюсь, хотя бы не пойдёшь по стопам отпетых хулиганов. Ох, сколько же в тюрьмы народа попадает…
– Мама, он не такой, – успокоила родительницу Людмила, – ему там делать нечего. Вот и свисток милицейский замолчал, наверное, всех похватали.
На самом деле никого не похватали, а случился выход в свет, по-другому – хулиганствующий дебют «Француза». Не того Серёги «Француза», победителя открытого первенства США по вольной борьбе в полутяжелом весе, а его не менее известного в егорьевских кругах семидесятых годов 20 века папани. Со слов очевидца, недавно демобилизованного толстячка-водителя Володи Власова, произошло следующее. Два местных полукриминальных шустряка, молодых, но уже заимевших определённый авторитет, по кличкам «Ермак» и «Ленин», решили проучить юного сопляка «Француза» за непочтительное к ним поведение в ресторане. Тот ресторан располагался на улице Советской в полуподвальном помещении, где впоследствии предприниматель Зимин построил магазин «Товары для дома». Так вот, два ухаря пригласили, вернее настойчиво предложили юному хулигану выйти с ними на свежий воздух. Декабрьский вечерний воздух оказался избыточно свеж, а сугроб, в котором очутились секунд через десять местные деловые, вообще холодным. Увы, понты не равны физической силе и ловкости. «Француз» их легко разметал по наваленным дворником снежным кучам. И худо бы им пришлось, но мимо проезжал знаменитый в те годы, чуть ли не единственный в городе гаишник Володя Шилкин, детина здоровенный и не особо злобный. О его способности выпить семь бутылок водки ходили легенды по всему району. Самоуверенный Володя, преисполненный властными амбициями, узрев драку, остановил милицейский «Урал» с коляской, вальяжно с него слез и во всю мощь лёгких дунул в свисток.
Времена были свисткобоязненные. От милицейской трели моментально унималась любая буза, а народ, на всякий случай, бросался врассыпную. В данном случае этого не произошло. Прирождённый карбонарий «Француз» и не пытался бежать. Он крюком правой отправил контуженного гаишника на мёрзлый асфальт, а служивый едва не проглотил психически усмиряющий инструмент.
Невозмутимый юный хулиган, ровесник Юры и Милы, преспокойно ушёл в сторону обувной фабрики, к ближайшей автобусной остановке. «Ермак» с «Лениным», до этого опасливо лежащие в сугробе, быстро вскочили на ноги и стали услужливо поднимать Володю Шилкина. Тот долго мычал, мотая головой, словно бык, получивший удар кувалдой в лоб, потом выплюнул свисток.
Оставшийся вечер деловые поили могучего сотрудника ГАИ, компенсируя его контузию, а заодно косвенно благодаря за спасение. Они понимали: «Француз» убивать бы их не стал, но покалечить мог изрядно. Лично они юного дебошира не знали, вернее «Ленин» встречал его пару раз, поскольку жил неподалёку, а «Ермак» вообще встретился с «Французом» впервые. Чтобы сгладить обстановку, дельцы заодно компенсировали ресторану разбитое стекло.
Володя Шилкин остался довольным ресторанным вечером. Да, плохо работала челюсть и голова, зато сколько водки и коньяка выпито!
Повествование о знаменательном событии я слушал много лет спустя от очевидца – Володи Власова, когда он работал в ООО «Кедр», где я трудился начальником производства, а чуть раньше, от самой Людмилы. Кстати, Володе, водителю с тридцатипятилетним стажем, принадлежит юмористический каламбур на тему известной в своё время песни:
Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть,
Резкий поворот и ураган.