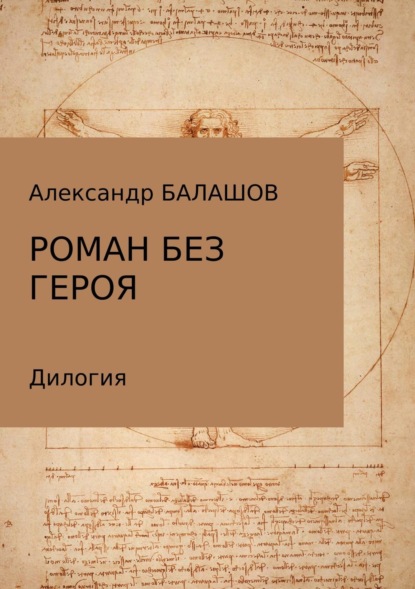По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он глазами показал на бумагу, лежавшие перед ним.
– Видишь, подписываю ходатайство твоему другу. Представляем его на звание заслуженного врача.
– Правильно, – кивнул я. – Значит, заслужил.
– Заслужил, – подтвердил он.
Он вздохнул и поставил размашистую подпись.
– И то правда, – откинулся глава на спинку кресла. – А где твоя, с позволения сказать, правда?
– Она не моя, – ответил я. – Она – одна. И ты, Степан Григорьевич, это знаешь.
Он долгим взглядом посмотрел мне в глаза.
– Правда у каждого своя…
Он потушил сигарету, но она продолжала дымить в массивной пепельнице.
– Начитались Булгакова, – сигарета не хотела гаснуть, и он придавил ее пальцем. – А нужно не Булгакова, а первоисточник, Библию, читать!
Я грустно усмехнулся: как действительно перевернулся мир, если Карагодин призывает читать Библию.
– Чего улыбаешься? – спросил он. – Упиваешься мыслью, какой ты герой? За правду. Или, может, ты и истину знаешь?
Он закашлялся, на глазах выступили слезы.
– Так скажи, Иосиф Климович. Как там?.. «И истину царям с улыбкой говорить». Мы все учились понемногу… У Анки-пулеметчицы.
– Это хорошо, что вы, Степан Григорьевич, об истине вспомнили, – опять перешел я на «вы». – Она ведь, как сказано в Библии, – превыше царей. И только она, истина, со временем останется в памяти потомков. По закону Господа Бога…
– Об истине заговорил, – перебил меня Карагодин. – Тогда вспомни, как Пилат допрашивает Иисуса. Не в романе, в Библии. Он допытывается, что же есть Истина? Иисус ведь на допросе сказал: «Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Тогда Пилат повторил вопрос: «Что есть Истина?». И что ответил Христос?
Я промолчал, не понимая, к чему он клонит.
– Вопрос Пилата остался без ответа, – радостно объявил он мне. – Понимаешь, без ответа. А у тебя, гляжу, на все ответ есть. Ведет тебя на коротком поводке, Захар, месть за отца, как я погляжу. А ведь он зла не помнил. Вину свою полностью признал и искупил честным трудом. Бригадирил в «Победителях». Дом вон какой поставил. А лес-то потихоньку подворовывал… Могли и во второй раз посадить. Простили однорукого.
Он подкатился на колесиках кресла ко мне поближе.
– Не пойму я, Иосиф, чего ты все-таки добиваешься? Я человек прямой, подтекст твой мудреный не понимаю. Скажи прямо.
Он прикурил новую сигарету, затянулся ароматным дымом.
– Назови условия, сумму, если хочешь. Сегодня твоя позиция гроша ломаного не стоит. Свернешь и себе шею, и семью по миру пустишь.
– Правды хочу, – угрюмо ответил я. – И для себя и для других.
И вдруг неожиданно для себя ляпнул, будто кто за язык меня потянул: – Требую проведение эксгумации.
Он перебил:
– А кто знает, что там – собака зарыта? Кто?
– Я знаю. Мало?
– Ничтожно мало! – парировал он. – Разуваев знал, умер от пьянки. Сумасшедший доктор знал – помер. Сын его приемный, Павел Фокич, вот звание заслуженное получает. Так что оставайся-ка ты, дружок, один на один со своей правдой. Она тебя в могилу и сведет.
Он засунул пальцы под модные подтяжки, похлопал резинками по упругим бицепсам.
– История, как я гляжу, повторяется. Один уже требовал эксгумации… В желтый дом загремел. И знаешь почему?
– Знаю…
– Ничего ты не знаешь. Загремел, потому что священную память хотел опоганить. Веру у народа отнять. А это безнаказанно при любой власти не останется.
Я встал, понимая: тема разговора исчерпана, стороны остались при своем мнении.
– Не должен стоять памятник на могиле пса, – сказал я, вставая со своего места.
Он усмехнулся:
– А памятник на могиле героев. Там, где ему и положено быть.
Степан, не вставая с руководящего кресла, отъехал от меня на колесиках в угол, где стояли знамена.
– Ну, представь себе, что свершилось невероятное. Сделали по твоему запросу эксгумацию двух могил. В одной – кости собаки. А в другой-то – кости великана. Твоего прадеда Пармена. После освобождения района обмишурились малость партизаны. С радости ли, или с горя, только вместо останков Петра Ефимовича, с вашего огорода перенесли косточки деда Пармена.
Он с улыбкой заглядывал мне в глаза, пытаясь прочитать мою реакцию.
– Вот и выходит, что ты не к деду Пармену на слободское кладбище все эти годы цветы носил, а Петру Ефимовичу. И что изменилось? Да ровным счетом ничего. Потому что и эта зеленая бронза, и эти надписи, и цветы в День победы – это всего лишь символы нашей памяти. Знаки нашей любви и веры. А любовь и вера пересмотру не подлежат. Только сумасшедший может на них покуситься.
Я молчал, не зная, что ответить на этому словесному эквилибристу. А он уже не выпускал инициативы из рук.
– Да и не в символе веры дело…– продолжал Чертенок. – Нашему человеку, Захар, обязательно идол требуется. Ну, не может он без кумиров и идолов. Если нет их, значит, нужно придумать. К тому же, сам знаешь – мертвые срама не имут.
Он снова выкатился из «красного угла».
– Ты у младшего своего давно в гостях не был? Съездил бы. Проведал. Заодно узнал бы, что коренные москвичи требуют вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Как символ беззаветному служению власти.
Степан Григорьевич встал, многозначительно посмотрел на часы.
– Для кого-то железный Феликс, пес диктатуры пролетариата. Для других ностальгия по прошлому. Русского человека хлебом не корми, дай поностальгировать.
Он снова многозначительно посмотрел на свой дорогой хронометр.
– Да и христианин ли ты после своих требований, Иосиф? Тебе любой батюшка скажет: прощать нужно, тогда и тебе Бог простит… Быть может. Всё, гражданин Захаров. Пиём окончен! У меня сейчас совещание.
Я, не попрощавшись, молча повернулся и пошел к двери.