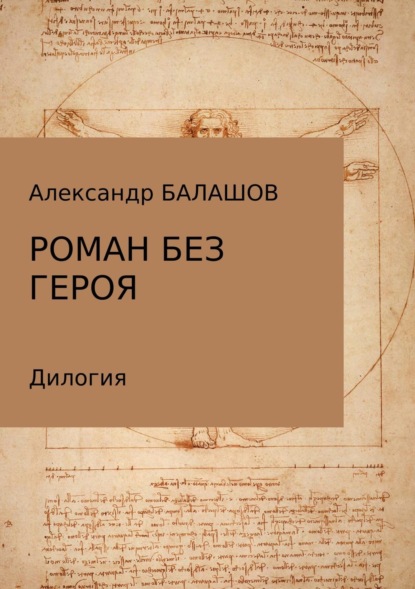По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Подожди, хозяин… – из-за запертой двери ответила ему санитарка. – Я узнаю все-таки. Такой человек большой – и такое ужасное несчастье… Ох-хо-хо… Грехи наши тяжкие.
Она отошла, но через минуту вернулась, отперла больничную дверь, обитую грязной желтой клеенкой.
– Проходи, – хмуро кивнула она похмельному Николаю. – Без начальника, я гляжу, ты совсем, парень, избаловался…
– Это с горя, – мутно улыбнулся Разуваев. – Горе-то какое… Говорят, сожрал пес ему лицо. Нету теперь Григория Петровича…
– Ты чё буровишь-то? Как это – нету? Лежит вон в той, самой теплой палатке…
– Нету, говорю тебе, казачка Надя, – шмыгнул носом Николай. – Без лица руководителя не бывает.
– Иди, иди, горе луковое… – сказала санитарка, запирая за Николаем дверь. – Да недолго. Лукич вообще запретил всякие к нему посещения. Для тебя исключение. Гордись.
– Я и горжусь! – игриво сказал личный шофер Григория Петровича и подмигнул черноглазой Наде, еще молодой, цветущей женщине, которую Фока Лукич «взял за себя» с уже готовым ребеночком.
Колька проскользнул в палату к своему забинтованному начальнику. Григорий Петрович беспокойно зашевелился, не видя раннего посетителя.
– Лежите, лежите, Григорий Петрович…Это я, Николай Разуваев, – успокоил больного шофер. – Проведать вот вас пришел… Как вы и просили, по телефону.
Колька говорил и выгружал из авоськи собранные Ольгой и райкомовскими разные гостинцы.
– Вот яблоки моченые, сало с прослойкой, мед гречишный, жамки тульские, картохи вареные в чугунке, с солеными огурчиками…Мясо вареное, лук с чесноком… Тут и мертвый подымется, чтобы пожрать до пуза.
Он засмеялся. Григорий Петрович пошевелился и вздохнул.
Колька выгрузил в тумбочку продукты питания потом собрался с духом и, искоса, через зеркало на стене, лишь мельком взглянул на забинтованное лицо Григорий Петровича – боялся испугаться. Слух по Слободе прошел, что лучше бы Григорий Петрович помер там, в больничке, чем с таким, Господи помилуй, обличием оставаться…
– Выжрал уже с утра… – глухо буркнул в бинты Карагодин.
«Учуял, паразит!… – удивился шофер, – Хоть собака ему нос и отгрызла, а запах гандонихиного самогона слышит».
– Чего молчишь?.. – спросил Карагодин. Нитки, которыми зашивал порванное псом лицо Фока Лукич, очень мешали ему говорить. Но Лукич обещал, что после снятия швов губы будут двигаться нормально. Но это, думал Карагодин, уже полбеды. Главная беда – эти ужасные видения, черные припадки – после лечения по рецепту Амвросия не повторялись. Уши, словно их и не было. И это, нисмотря ни на что, радовало Григория Петровича. Теперь оставалась самая важная, заключительная часть лечения, которая не должна позволить появлению рецедивов – торжественные похороны пса. Но это было и самой трудной частью. Финальный аккорд реквиема должен был прозвучать не фальшиво, а по-настоящему, воистину тожественно и пышно.
– Вижу, на поправку пошли… – по привычке соврал Николай.
– Дурак! Тебя жалею: сниму бинты – заикой сделаешься.
– Не надо, Григорий Петрович! – взмолился Разуваев.
– Сам знаю, что надо, что не надо.
Они помолчали. Разуваев мучался у постели больного, не зная, что говорить человеку, потерявшему свое лицо. Не было у него подобного опыта еще в сравнительно молодой разуваевской жизни.
Выручил Карагодин. Голос у райкомовского секретаря был, как всегда, энергичным, деловым:
– Ты сейчас пойдешь. И всё приготовишь для похорон.
– Григорий Петрович, – всхлипнул пьяненький Колька. – Может, еще обойдется?
– Не обойдется. Приготовишь гроб, обитый красной материей. Венки. С оркестром из пожарки договоришься… Их капельмейстера ты знаешь.
Колька растирал пьяные слезы, бежавшие по небритым щекам.
– Неужто так всё плохо?… Не надо, Григорий Петрович! Не помирайте… «Победу» только что дали новенькую… Как же я?
Карагодин вздохнул:
– Надо, Коля, надо… Не могу тебе объяснить. Чтобы воскреснуть, я должен умереть…
– Как это? – не понял Разуваев. – Как Иисус Христос?
Николай украдкой перекрестился, хотя точно знал, что на глазах у его начальника плотная повязка.
– Тебе, Коля, этого не понять… Да и не надо понимать. Ты только сделай все, как я скажу. Обещаешь?
– Обещаю, – всхлипнул Разуваев.
– Скажи, куда труп черного пса дели?
– Я его на помойку выбросил… Надо бы закопать, а то завоняет.
– Ни в коем случае! – встрепенулся забинтованный. – Когда привезешь гроб, положишь туда труп собаки. А крышку сразу заколотишь… Любопытным скажешь, что собака так изуродовала Григория Петровича, что в открытом гробу хоронить нельзя.
– Так можно пустой заколотить. Пса-то зачем туда совать?
– Ну, оболдуй!.. Не перебивай, сказал. За работу премию получишь.
– От кого?
– От Фоки Лукича… Он мой воскреситель. У него и все мои сбережения.
– Идет, – повеселел Коля. – Всё сделаю в лучшем виде.
Разуваев, пивший самогонку три дня и три ночи кряду, соображал медленнее, чем ездила его прежняя машина – трофейный немецкий «Опель».
– Пса в гроб положу… Постойте, постойте…А как же вы, Григорий Петрович? Куда вы-то лягать-то будете?
Забинтованная голова приподнялась на подушке.
– Дурак… Запомнай, как торжественную клятву пионера. Положишь в кумачовый гроб труп пса. Меня там не будет… Я буду, ну, скажем, в другом месте. Крышку заколотишь. Но хоронить будете, будто меня – уважаемого всеми человека. И гляди – никому ни слова. Иначе башка слетит. Об этом торжественном погребении пса будут знать только трое…
– Кто еще? – спросил Коля, икая.
– Я, Фока Лукич и ты.
– Всё?
– Всё.