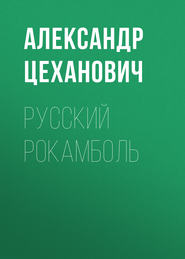По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Страшное дело. Тайна угрюмого дома
Год написания книги
1872
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ему было все равно: больше одной раной на его изможденном теле или меньше.
Но зато в душе его росло и крепло другое чувство; оно одно почти и поддерживало его: это была жгучая ненависть к своим притеснителям, ненависть, пускающаяся на изобретательность для возможного хотя бы частичного отмщения.
Несчастному и в голову не приходило, что служители и исполнители закона тут ни при чем, что тут сама судьба гораздо жестокосерднее поступила с ним, чем все эти «притеснители», что для них он неопровержимо – вор и грабитель или, по крайней мере, ближайший соучастник этого преступления.
Он не мог этого понять! В его затемненном горем мозгу логические выводы исчезли, оставляя на свободе только инстинкты зверя, которые в человеке ужаснее, чем у самого вредного и злого животного.
Следователь уже занес в протокол, что заключенный отказывается наотрез от дачи каких-либо дальнейших показаний, а равно и не желает назвать имена сообщников, отрицая даже самое их существование.
Его временно оставили в покое, до дальнейшего и окончательного доследования фактической и топографической части этого дела.
Но больше всего подействовал на следователя такой факт.
При камерах у заключенных служил старичок-сторож.
Это было добродушное, немного глупое существо с виду, но много раз доказывавшее, что в его старческих глазах недаром блестит в глубине острая и словно затаенная искорка мудрости.
Он прекрасно знал свое дело, впрочем весьма несложное и состоящее всего лишь в том, чтобы разнести арестантам пищу и убрать обратно посуду.
Много лет служил он по тюремному делу. Начал службу в Литовском замке, а потом, по открытии предварительного заключения при окружном суде, был переведен сюда.
С арестантами он был очень ласков и даже нежен.
Он в эти короткие минуты подачи пищи дарил каждому из них несколько слов утешения, и таких разумных, таких мягких, которые были настоящей духовной пищей.
Руки его несли хлеб насущный, а сердце – духовные напитки и яства.
Молва об этом старике долго держалась в памяти заключенных и передавалась, как легенда, из уст в уста, когда потом он, окончательно одряхлев, перешел на житье в богадельню.
Звали его Самсоном Ивановичем.
Когда поступил Краев, Самсон Иванович в первый же принос пищи встретил нового узника такой лаской, как отец приехавшего на побывку сына.
Но в первые дни, предавшись своему отчаянию, Краев не замечал этой ласковости, как не замечал решительно ничего, что вокруг него творилось.
Но на четвертый или пятый день он заметил старика и даже перекинулся с ним несколькими словами.
– Ничего, батюшка,?– уходя, сказал Самсон Иванович,?– лучше, милый, кару понести за грех свой, чем тяжестью носить ее в себе до могилы, а потом и Господу представиться с этой позорной ношей. Кара грех смывает, батюшка, так-то!..
И Самсон Иванович ушел.
Удивило его только, что слова его не произвели всегдашнего впечатления, а, наоборот, будто озлили арестанта; ему показалось даже, что он ругнул его вслед.
Почесал в затылке старик и протяжно сказал сам себе:
– Та-а-а-к!..
Самсон Иванович смекнул что-то и решил проверить в следующий раз, какого сорта этот человек: обыкновенный ли арестант или, боже упаси, невинно, ошибочно заключенный. А таких за долгую его службу ему тоже приходилось видеть.
Испугался старик своей мысли и стал все думать о «новеньком» и поджидать часа, когда ужин нести надо.
Он знал, что с этим визитом его и весь вопрос разрешится.
Как только он еще раз внимательно взглянет на него, так и решит, потому что глаз у него хотя и старый, но зоркий и наметанный.
Ошибиться он не может потому, что никогда не ошибался.
Вот настал и час ужина. Это случилось как раз в тот день, когда измученный Краев решил молчать дальше, и молчать уже целиком весь допрос этого дня.
Вошел Самсон Иванович да и из самой ниши еще вперился на арестанта, и чем ближе подходил, глазами так и ел его.
Краев лежал в своем обычном оцепенении.
При виде старика что-то вроде радости скользнуло по его исхудалому лицу.
– Что, батюшка, ужинать будешь?
Краев замотал головой.
– Поешь, сердечный, желудок не виноват, что голова проштрафилась.
Сказал это Самсон Иванович и чуть миску оловянную не выронил.
«Как есть такой! – подумал он.?– Ну, вот побожиться готов, если он хоть в чем-нибудь виновен».
И страшно стало старику, так же страшно, как и всегда, когда ему случалось делать такие открытия.
– Послушай! – тихо шепнул старик, делая вид, что что-то прибирает на столе.
Краев быстро повернулся на этот дружеский шепот, словно родной человек окликнул его в пустыне.
– В чем виноват-то ты?
– Я-то? – поднялся с постели Краев.?– А вот Бог небесный! Убей Он меня и замуруй навеки в этом мешке, если я вру, что ни в чем, дедушка… Мне пред тобой, дед, таиться нечего: все равно говорим мы один на один, а на хорошее твое слово отчего правды не сказать, а только если говорить правду, то и выйдет, что сказать придется: ни в чем я не виновен и за что посадили меня – не знаю.
Старик покачал головой.
– Вечор зайду! – сказал он тоже шепотом.?– Ты и расскажи мне, коротко только, в чем дело-то твое состоит, потому что долго мне быть в камере не полагается.
На другой день Краев рассказал старику свое дело.
Самсон Иванович опять покачал головой и опять ничего не сказал, даже и в утешение ни слова.
Что-то задумал старик.
А задумал старик вот что: просто-напросто явился к следователю, производившему дознание по делу Краева, и стал уверять его, что на его старый опытный глаз заключенный как есть совсем прав.
– Много значит личность, батюшка, ваше благородие,?– заключил старик.?– По личности любого человека узнать можно: виноват он или прав?
Но зато в душе его росло и крепло другое чувство; оно одно почти и поддерживало его: это была жгучая ненависть к своим притеснителям, ненависть, пускающаяся на изобретательность для возможного хотя бы частичного отмщения.
Несчастному и в голову не приходило, что служители и исполнители закона тут ни при чем, что тут сама судьба гораздо жестокосерднее поступила с ним, чем все эти «притеснители», что для них он неопровержимо – вор и грабитель или, по крайней мере, ближайший соучастник этого преступления.
Он не мог этого понять! В его затемненном горем мозгу логические выводы исчезли, оставляя на свободе только инстинкты зверя, которые в человеке ужаснее, чем у самого вредного и злого животного.
Следователь уже занес в протокол, что заключенный отказывается наотрез от дачи каких-либо дальнейших показаний, а равно и не желает назвать имена сообщников, отрицая даже самое их существование.
Его временно оставили в покое, до дальнейшего и окончательного доследования фактической и топографической части этого дела.
Но больше всего подействовал на следователя такой факт.
При камерах у заключенных служил старичок-сторож.
Это было добродушное, немного глупое существо с виду, но много раз доказывавшее, что в его старческих глазах недаром блестит в глубине острая и словно затаенная искорка мудрости.
Он прекрасно знал свое дело, впрочем весьма несложное и состоящее всего лишь в том, чтобы разнести арестантам пищу и убрать обратно посуду.
Много лет служил он по тюремному делу. Начал службу в Литовском замке, а потом, по открытии предварительного заключения при окружном суде, был переведен сюда.
С арестантами он был очень ласков и даже нежен.
Он в эти короткие минуты подачи пищи дарил каждому из них несколько слов утешения, и таких разумных, таких мягких, которые были настоящей духовной пищей.
Руки его несли хлеб насущный, а сердце – духовные напитки и яства.
Молва об этом старике долго держалась в памяти заключенных и передавалась, как легенда, из уст в уста, когда потом он, окончательно одряхлев, перешел на житье в богадельню.
Звали его Самсоном Ивановичем.
Когда поступил Краев, Самсон Иванович в первый же принос пищи встретил нового узника такой лаской, как отец приехавшего на побывку сына.
Но в первые дни, предавшись своему отчаянию, Краев не замечал этой ласковости, как не замечал решительно ничего, что вокруг него творилось.
Но на четвертый или пятый день он заметил старика и даже перекинулся с ним несколькими словами.
– Ничего, батюшка,?– уходя, сказал Самсон Иванович,?– лучше, милый, кару понести за грех свой, чем тяжестью носить ее в себе до могилы, а потом и Господу представиться с этой позорной ношей. Кара грех смывает, батюшка, так-то!..
И Самсон Иванович ушел.
Удивило его только, что слова его не произвели всегдашнего впечатления, а, наоборот, будто озлили арестанта; ему показалось даже, что он ругнул его вслед.
Почесал в затылке старик и протяжно сказал сам себе:
– Та-а-а-к!..
Самсон Иванович смекнул что-то и решил проверить в следующий раз, какого сорта этот человек: обыкновенный ли арестант или, боже упаси, невинно, ошибочно заключенный. А таких за долгую его службу ему тоже приходилось видеть.
Испугался старик своей мысли и стал все думать о «новеньком» и поджидать часа, когда ужин нести надо.
Он знал, что с этим визитом его и весь вопрос разрешится.
Как только он еще раз внимательно взглянет на него, так и решит, потому что глаз у него хотя и старый, но зоркий и наметанный.
Ошибиться он не может потому, что никогда не ошибался.
Вот настал и час ужина. Это случилось как раз в тот день, когда измученный Краев решил молчать дальше, и молчать уже целиком весь допрос этого дня.
Вошел Самсон Иванович да и из самой ниши еще вперился на арестанта, и чем ближе подходил, глазами так и ел его.
Краев лежал в своем обычном оцепенении.
При виде старика что-то вроде радости скользнуло по его исхудалому лицу.
– Что, батюшка, ужинать будешь?
Краев замотал головой.
– Поешь, сердечный, желудок не виноват, что голова проштрафилась.
Сказал это Самсон Иванович и чуть миску оловянную не выронил.
«Как есть такой! – подумал он.?– Ну, вот побожиться готов, если он хоть в чем-нибудь виновен».
И страшно стало старику, так же страшно, как и всегда, когда ему случалось делать такие открытия.
– Послушай! – тихо шепнул старик, делая вид, что что-то прибирает на столе.
Краев быстро повернулся на этот дружеский шепот, словно родной человек окликнул его в пустыне.
– В чем виноват-то ты?
– Я-то? – поднялся с постели Краев.?– А вот Бог небесный! Убей Он меня и замуруй навеки в этом мешке, если я вру, что ни в чем, дедушка… Мне пред тобой, дед, таиться нечего: все равно говорим мы один на один, а на хорошее твое слово отчего правды не сказать, а только если говорить правду, то и выйдет, что сказать придется: ни в чем я не виновен и за что посадили меня – не знаю.
Старик покачал головой.
– Вечор зайду! – сказал он тоже шепотом.?– Ты и расскажи мне, коротко только, в чем дело-то твое состоит, потому что долго мне быть в камере не полагается.
На другой день Краев рассказал старику свое дело.
Самсон Иванович опять покачал головой и опять ничего не сказал, даже и в утешение ни слова.
Что-то задумал старик.
А задумал старик вот что: просто-напросто явился к следователю, производившему дознание по делу Краева, и стал уверять его, что на его старый опытный глаз заключенный как есть совсем прав.
– Много значит личность, батюшка, ваше благородие,?– заключил старик.?– По личности любого человека узнать можно: виноват он или прав?
Другие электронные книги автора Александр Николаевич Цеханович
Русский Рокамболь




 4.67
4.67