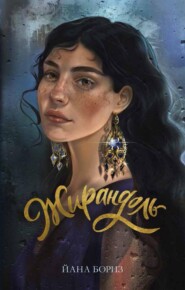По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О чем смеется Персефона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После долгого чаевничания, от которого даже заломило спину, мсье Папочкин соизволил отвести мадемуазель Полли в угол гостиной и полюбопытствовать ее успехами в стихосложении. Она протянула свой выбеленный альбомчик, куда попадали далеко не все экзерсисы, а только самые успешные, гладко причесанные и сверенные с общепринятым камертоном. Он полистал, приподнял тонкую бровь, повел ноздрями, как застоявшийся конь, и вскользь похвалил, мол, недурно. Аполлинария обиделась.
– Но говорить я с вами намерен об ином. – Викентий принял академическую позу, как будто поверял ученому сообществу грандиозное открытие. – Мне угодно обзавестись семьей, батюшки больше нет, пора осесть и остепениться. Как вы лицезреете вероятность заполучить мою руку? Примете ли?
– Я?! – От неожиданности Аполлинария осипла. – Позвольте! Мне надобно время обдумать.
– Понимаю вас. – Папочкин кивнул. Даже если он огорчился, то не подал виду. – Юным барышням, да и вообще всем человекам надлежит прежде хорошенько обдумывать и взвешивать свои решения. Я буду ждать. Вы должны знать одно: я ваш преданный слуга на веки вечные и, кроме вас, иной спутницы рядом не представляю и не желаю даже помыслить.
Такие сухие и протокольные слова не смогли разжечь притушенный уголек в сердце Полли. Если год назад она и задумывалась о достоинствах господина Папочкина, то нынче – увы! – он безнадежно потускнел и вовсе исчез из ее помыслов. Она все честно рассказала матери, та осудила наметившийся отказ. Годы подпирали, в соседних поместьях поспевали новые невесты. Засидеться старой девой – что могло быть хуже? Аполлинария всю ночь ворочалась, задавая себе те же вопросы. Что хуже: мыкать скуку с нелюбимым или вековать в стародевстве? Утром она решила дать свое согласие. Пусть сватается, и с концом. А к обеду уже передумала: нет, она не выдержит, она не Веселина, что могла из расчета ублажать плешивого старикана. К вечеру стало совсем невмоготу и полились стихи, правда не вышколенные, а из самых потаенных глубин души, бурливые, часто без рифмы, такие, что не показывают всяким Папочкиным, а только читают про себя. Исписав десять листов лирических бессонных откровений, Аполлинария перешла к прозе, вернее, к эпистолярному жанру. Она надумала пройти несчастливым путем Татьяны Лариной и отправить письмо Ипполиту.
«Я беспрестанно опасаюсь выглядеть смешной и глупой, но мне не у кого спросить совета, потому и обращаюсь к вам, памятуя о нашей светлой и бескорыстной детской дружбе. Господин Папочкин соизволил сделать мне предложение, он весьма целеустремленный и неглупый человек, любая из благородных девиц почтет за счастье назваться его спутницей, но только не я».
Дальше следовало длинное и подробное описание Викентия, начиная от бородки и заканчивая научными потугами, анекдотами, которые он рассказывал, музыкой, что он любил, местами, где, по его рассказам, он бывал счастлив. Потом, уже на третьей странице, повествование возвращалось снова к ней самой и эмоциональность набирала обороты.
«Мне тускло с ним, душно, я не смею смеяться или плакать, я невольно озираюсь, не протыкает ли он меня взглядом сзади и не оторвалась ли у меня ненароком пуговица. Мне страшно, что, оказавшись за ним, я попросту занемогу и зачахну, как цветник без ухода. Но и оставаться долее с маменькой и папенькой невозможно, у них недостает средств на мое образование, как мечталось бы, и на мои развлечения, чтобы подыскивать женихов полюбезнее сердцу.
Я прекрасно осведомлена, что письмо мое окрашено в скандальные цвета и вызовет вашу насмешку, как слабое подражание Татьяне в ее признании Онегину, но теперь мне уже все равно. После того детского обещания в нашей рощице, на берегу нашей реки, над волнами, которые помнят все, я так и не переставала о вас думать. Теперь я не ищу вашей руки или нового обещания. Просто, зная меня так хорошо с самых искренних лет, кому как не вам решать, что станет для меня счастьем или непосильным испытанием? Как велите, так и поступит несчастная, но преданная вам всей душой». И подпись.
Назавтра снова явился Викентий за ответом, но Полли сказалась нездоровой, а маменька изо всех сил потчевала его копченым окороком и зазывала на зимнюю охоту, приукрашивая ее литературщиной: «Чтобы кони летели по снегу, высекая алмазы из-под копыт». Папочкин не прельстился и отбыл в Казань, обещая явиться через месяц.
Спустя две недели приехал Ипполит, остановился, как всегда, в соседнем имении у дядюшки-графа и, не распаковывая багажа, ринулся сквозь рощу и пургу к Шварцмеерам. Он возник на пороге как мрачный демон из ночи: шляпа в руке, кудри запорошены снегом, в глазах всполохи, на устах кровь.
– Что с вами? – всплеснула руками мадам Шварцмеер.
– Споткнулся… упал… рассек губу… А, чепуха!
– Проходите скорее да снимите пальто. И сюртук, он тоже измок.
Аполлинария металась по своим покоям истекающим агонией подранком. Он приехал к ней! Не может быть! Что же теперь будет? Как себя вести после того письма? Неужели он здесь, только чтобы произнести роковое «учитесь властвовать собою, не каждый вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет»? Лучше упасть замертво, чем такие муки! Но Осинский явился вовсе не за этим. Он не стал читать ее сумбурных стихов, а заявил, едва они остались вдвоем, что мужчина не имеет права на детские обещания. Раз он сказал, что женится на ней, так тому и быть.
К лету одна тысяча восемьсот девяносто девятого она стала госпожой баронессой Осинской, как тогда казалось, самой счастливой молодой дамой во всей огромной империи… А спустя восемнадцать лет, в сентябре одна тысяча девятьсот семнадцатого, она считала себя самой несчастной старой гусыней.
* * *
Аполлинария Модестовна провожала сумбурное лето, лежа в своей постели. Заботливая Олимпиада приносила притирки и микстуры, варила жидкие каши и готовила травяной настой, как велел доктор. Барыне категорически воспрещалось умирать – нынче не те времена. Сама баронесса тоже так думала, поэтому упрямо вставала каждый день на костыли, брела до двери, возвращалась к окну, не обращая внимания на бегавшие по спине ледяные лапки недужного пота и застрявший в черепе раскаленный докрасна топор.
Всего год назад она планировала этим летом вместе с дочерью отправиться в Туркестан по следам мужа, а вышло вот что – немощь, страх, одиночество. Теперь уже непонятно, может быть, выигрышем как раз стал бы отъезд в далекое далеко с вредной Тамилой под мышкой. В той несостоявшейся будущности она сохранила бы дочь, а в этой – только вороватую Липку, притворявшуюся сердобольной, а на самом деле нагло таскавшую хозяйское серебро, муфты и шали.
Тот день, когда Аполлинария Модестовна гневно бросила дочери «Ступайте прямо сейчас и больше не возвращайтесь», для нее самой еще не закончился. Она думала, что Тамила заплачет, расскандалится, запрется у себя, но никуда не уйдет. Вроде неглупая, а на улицах содом и смута. Поэтому мать смело швырялась проклятиями наподобие «Ваш неуместный бунт позорит достойную фамилию» или «Прошу освободить квартиру от вашего очаровательного присутствия». На самом деле это все были воспитательные фокусы: материнское сердце любило любую дочь. Услышав хлопок входной двери, баронесса пропустила выдох, захлебнулась застрявшей в груди злостью, но справилась: ничего, посидит немножко у подъезда, потыкается своим замечательным курносым носиком в неприветливые перспективы и нашкодившим кутенком поскребется назад.
Она не стала подходить к окну: пусть бесстыжая не думает, что все произошедшее просто пьеса в гимназическом театре, даже не пьеса, а репетиция, за которой следят заботливые глаза. Так прошло полчаса. Хозяйка хотела выслать Липу на разведку, но передумала: эти две о чем-то шептались между собой, продаст ее прислуга за какую-нибудь нарядную барышнину кофточку. Потрепанные в частых переездах часы пробили шесть, потом семь. Дочь не появлялась. Ясно: пересидит дотемна, чтобы мать забеспокоилась всерьез. Надо ждать, выдерживать характер. Детей надлежит воспитывать, а не поливать щедротами, это же не садовые растения. Тем более дворянских отпрысков, кому по рождению полагалось демонстрировать всем прочим отменные манеры и вкус. Правильный выбор взглядов – это тоже вкус.
Топор в голове все шевелился, раскочегаривал угольки застарелой боли. Она посмотрела на часы: уже прошло достаточно с последнего променада на костылях, надо повторить. Кровать со скрипом отозвалась на ее потуги присесть, в сломанной ноге что-то харкнуло, чихнуло, мозоль под мышкой предупреждающе заныла. И все равно она пойдет, будет скрипеть, потому что ползком дочь не найти и не вызволить.
В ту ночь Тамила так и не пришла, баронесса обезумела. Бежать! Догонять! Вызволять из грязных похотливых лап!.. Но куда? Назавтра верная сплетница Олимпиада сообщила вести от соседской горничной: та накануне подглядела барышню в сопровождении высокого молодца в картузе, по виду из письмоводителей. Аполлинария Модестовна поняла, что ее ласточка попала в когти коварного Чумкова, не иначе. Неужели у них имелся сговор? Да нет же! Кто мог предугадать, что мать укажет на дверь именно в тот день и час? Она сама не ведала, какие слова вылетят из ее уст… Зашить бы эту проклятущую пропасть навсегда! Что мужу роняла, не обдумав, что вот теперь Тасе. Оглашенная глотка у нее, ненасытная, палит в колокола, как на пожаре, а потом за эту пальбу сердце в слезах и седина в волосах. И ведь помощи просить не у кого: сама прогнала – сама ищи.
Наутро после той бессонной ночи Аполлинария Модестовна поступила согласно правилам – обратилась в полицию. Прежних чинов там уже не водилось, но червонцы-то пользовались ого-го каким успехом. Она вышла из дома ближе к полудню в салатовом платье попроще, не по фигуре, и обыкновенной, напрочь лишенной кокетства соломенной шляпке. Так ходили мещанки и купчихи, так можно. До Казанского переулка она шла медленно, ощупывая глазами прохожих и заглядывая в подворотни. Надежда встретить возвращавшуюся домой Тамилу таяла с каждым шагом. Здание полицейской части размещалось в квартале между Казанским тупиком и Житной улицей, внутри нестерпимо воняло потом и прокисшими щами, хмурые морды арестантов мало отличались от недовольных полицейских рях. Прождав битый час, баронесса совершенно отчаялась и уже надумала убираться восвояси, но тут какой-то белобрысый толстячок грубо схватил ее за рукав и потащил за собой.
– Что у вас сперли, барынька? – Он положил перед собой чистый лист бумаги и с ходу набросился на нее, не дав толком усесться на хромой стул.
– Как? – Осинская растерялась.
– Украли, говорю, что?
– Ничего… У меня дочь пропала.
– Мала?
– Шест… семнадцать.
– Где пропала? Напал кто?
– Нет. Ушла из дома и не вернулась.
– Зачем пошла?
– Поймите, это непросто объяснить… Мы повздорили, и она ушла, вышла на мостовую. А потом я ее не видела.
– Так, выходит, не пропала она, а самодеятельно ушла. – Белобрысый отложил в сторону мятый листок, так и не испачкав его.
– Да нет же! Я прошу содействия. – Аполлинария Модестовна полезла за червонцем, правоохранительная телега грозила застрять без этого существенного аргумента.
– Ни! – Ее собеседник предупредительным жестом поднял руку. – Не сметь тут реветь!.. Вы вот что: поспрошайте у наперсниц – хахаль, можа, есть.
– Есть, есть, – обрадовалась баронесса. – К нему-то она и ушла!
В открытую дверь просунулась сердитая смоляная башка и грозно рыкнула:
– Васильев! Чаво расселся? Там в Толмачевском буза, всем в ружье.
Голова исчезла, а белобрысый начал собираться: поискал фуражку, вытащил из-за голенища нечищеного сапога свернутый в трубочку кисет и засунул на его место плеть.
– Вот видите. – Он встал, приглашая Аполлинарию Модестовну покинуть помещение. – Сами знаете, где она, а говорите, что пропала. Идите к тому хахалю и потолкуйте с им за здоровье. А нам недосуг.
– Но…
– Давайте, барынька, прощевайте… Тут полицейская… то есть милицейская управа, а вовсе не ярмарка.
Она снова оказалась в приемной, дурной запах не выветрился, наоборот, стал еще тошнотворней. Осинская попробовала сунуться к другим околоточным, но попались только спешащие на бузу злюки. Очевидно, в Толмачевском нешуточно заполыхало. После бестолкового получаса под липкими взглядами жуликов она сочла за лучшее уйти. Правильно сказал белобрысый: надо договариваться миром. Ну что сделает квартальный в эти лихие времена? В острог этого проклятого Степана не засадит, даже не пригрозит толком, потому как уже нечем стращать, все фундаменты лопнули и разошлись. Полиция – оплот власти, пока та в силе. При безвластии от правохранительности никакого проку.
Итак, следовало срочно разыскать бессовестного Чумкова. Липке удалось разведать, что он пресмыкался где-то на Подобедовских заводах, значит, там могли подсказать адрес, или выдать его самого для неприятного рандеву, или даже посодействовать, уломать, чтобы вернул ее девочку. Ее изнеженная кошечка не станет кашеварить и стирать портков, зачем ему такая? Да им и поговорить не о чем, потому как «в одну телегу впрячь не можно» и так далее. Решено: срочно нанять извозчика и катить на завод.
Сначала не задалось с транспортом: ваньки ломили несусветную цену и не желали сторговываться. У Аполлинарии Модестовны просто не имелось с собой столько бумажных рублей, не вытаскивать же припасенный для полицмейстера золотой червонец. Она сдалась и потопала на конку. Там случилась обычная давка, баронессе едва не оторвали подол, а сумочку пришлось, как новорожденного, прижимать руками к груди. Наконец она оказалась на Таганской площади и вздохнула с облегчением: теперь уже скоро, надо только подобрать самые верные, подходящие слова. Ведь на самом деле она желала своей звездочке только добра. Где сыскать мать, что не мечтала бы о счастье для своего чада? Любовь – это хорошо, но лишь бы не обжечься. Она же не от любви хотела оберечь Тасеньку, а от глупостей. Степан ей не пара, это видно без пенсне или лорнета. Ну поиграются они, барышня примерит на себя мещанское платье, обожжется чугунным утюгом, спалит овсяные котлеты и устанет, захочет к привычным экзерсисам на фортепиано и романсам, ложам и накрахмаленным панталонам. Что тогда этот распроклятый Степан будет с ней делать? Как ублажать? Чем потчевать? А если его завтра убьют или закатают в каземат? Чем тогда станет кормиться ее неприспособленное дитя?
Все эти чудачки, социалистки и эмансипе, – малые дети, не умеют глядеть вдаль. Для того родители и опекают незрелых, не позволяют наглупить. Юная Полли и сама такой была, еще память свежа… Да не стоит об этом. А то опять Тася ее укорит, дескать, вы, maman, только о себе горазды говорить, других для вас словно бы вовсе нет. А они есть: и доченька-голубушка, и ее судьба, и пропащий муженек Ипполит Романович. Аполлинария Модестовна обо всех кручинится, за всех молится. Вот только про всякие бунты слушать – это увольте. Бунтарей у них в роду не водилось, и впредь им не место. Если самодержец оказался неугоден – вот, пожалуйста, посмотрите за окно: нет никакого государя императора, власть оккупировало Временное правительство. И что? Лучше стала жизнь? Разбогател народ, наелся от пуза? Всякому даже стороннему явственно, что ярмо лишь потяжелело, голодных и увечных приумножилось, порядок оскудел. И к чему же привела эта неуемная тяга к переменам? К нищете и бардаку, к безобразиям и кровопролитиям. Не довольно ли? Именно из-за этой треклятой революции она не смогла поехать на розыски своего Ипполита, не разузнала, где захоронена его многомудрая головушка. А как они обеднели за один только семнадцатый! Где гостиный ковер, где серебряный оклад, где вазочки витой золоченой проволоки? Все это и еще много чего Олимпиада утащила на рынок, потому что из имения давно не приходили переводы, и, ведомо, что не просто так, а по причине бедственного положения пейзан. Вот и революция, вот и путь к лучшей жизни!
Аполлинария Модестовна наконец оказалась на Швивской горке, или Швивой, или Вшивой, что больше подходило и по словесным законам, и по смыслам. Она стояла потная, озиралась по сторонам с видом победившего полководца, только вот за ее плечами не полоскались хоругви и не топталось никакой армии. Горка на самом деле не являлась таковой, не пускалась сгоряча вниз по склонам и не падала лицом в шелковую траву, а по зиме – в сдобный сугроб. Так называли высокий берег Яузы. На северо-востоке ее подпоясывала древняя дорога на Владимир, где Василий Шуйский снискал себе то ли славу, то ли проклятия, усмирив крестьян Ивана Болотникова. Юго-восток отгородила Яузская улица. На самую вершину залезла Гончарная, которую держала за руку Таганская площадь. Пару веков назад здесь стоял Петровский дворец, а теперь богачи из купцов и заводчиков тешили себя живописными видами крутобедрой реки. Москва отсюда представлялась необъятной красавицей в ожерелье из колоколен, в орнаментах дворцов, в кружеве улиц. Наперстками блестели пруды, обручами вились бесконечные каменные заборы. На шее у нее висела царская цепь Кремля с нательным крестом Василия Блаженного, рукава-речушки убегали за отворот камзола и прятались в лесных складках богатой юбки.
Баронесса полюбовалась роскошным видом, раз уж выпал случай, и отошла от широкой Яузской в сторону Вагина переулка. Она остановилась за безлошадной пролеткой, подбирая умные доводы. Сейчас пойдет и уговорит, образумит, чтобы отступился пройдоха Степан от их фамилии, не портил судьбу ни им, ни себе.