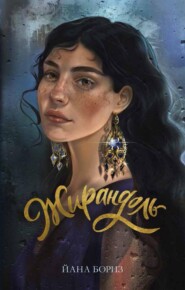По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О чем смеется Персефона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ай, как это замечательно! – Внутренняя пружина, с самой ночи сдавливавшая нутро, распустилась вполне безобидным стебельком, Тамиле будто задышалось легче, и тут же серые щеки начали затягиваться румянцем, как будто из дома напротив выглянуло наконец солнце и теперь спешило расцветить скучный мир.
– Что, позвольте?
– Я говорю, очень славно, что разбойники оказались… не злодеями, что Мирра невредима. Она ведь невредима?
– Остается надеяться. Анна Валерьяновна не изволили сообщить подробности. Надо полагать, наше семейство нынче у Аксаковых не в чести, и мне ведомо, кого в этом винить.
– Ах, maman, ради бога! Если Мирре угодно сбежать с женихом, при чем тут ваша дочь? Я-то решительно никуда не сбегала.
– Потому как никто не позвал, надо полагать. – Аполлинария Модестовна ехидно усмехнулась.
– А вам угодно, чтобы позвал? – Злоязычие сочинилось само собой.
– Позволю себе заметить, меня бы это не удивило. Однако оставим. Будьте любезны сесть напротив и подробно рассказать, что вам известно о похитителе мадемуазель Аксаковой. Кто он по происхождению? Отчего не посватался, как порядочный соискатель? Что вы вообще о нем знаете?
– Простите, мадам, я не осведомлена. А… а зачем вам?
– Как зачем? Чтобы выстроить дальнейшее… дальнейшее сосуществование с обществом. Вам надлежит понимать: нынче все уверены, что вы сопричастны этому преступлению. И я, кстати, тоже уверена. Однако мы с вами носим одну и ту же фамилию, – здесь она перекрестилась, – потому надо ее отмывать, очищать от ваших… ваших неслыханных поступков.
– Мадам, вы изволите заблуждаться, – твердо произнесла Тамила. – Я ни сном ни духом не ведала, что у Мирры на уме. Ночное нападение стало для меня неожиданностью, la dеsolation[10 - La dеsolation – горе, беда (фр.).]. – Она подняла глаза на мать – на лице у той восседали недоверие и брезгливость. – Как мне доказать вам, что я не лгу?
– Как доказать? Никак! – Аполлинария Модестовна хохотнула и, к огромному облегчению Таси, вытащила-таки ложечку из чашки. В комнате стало тихо и оттого совсем неспокойно. – Не я одна убеждена, что без вас в этом конфузе не обошлось. Так полагают все.
– Все? Какое касательство я имею до всех? А вы? Мы мать и дочь, больше у нас решительно никого нет. Почему вы оскорбляете меня недоверием?
– Да, больше у нас никого нет. Был бы жив Ипполит Романович, он помог бы воспитать вас selon l’еtiquette et vous apprendre des bonnes mani?res[11 - Selon l’еtiquette et vous apprendre des bonnes mani?res – согласно этикету и научить вас хорошим манерам (фр.).] и привить правильные принципы. Без господина барона вы совсем распоясались. Повторяю: я не удивлюсь, если вы завтра тоже сбежите с кем-нибудь, стоит только позвать. Кстати, вы осведомлены, что вчерашний господин Музаффар никакой не восточный князь? Он какой-то прощелыга социалист, коих нынче с избытком в кругу молодых людей из общества. Андрей Эммануилыч постеснялся привести его запросто, вот и разыграл спектакль. – Аполлинария Модестовна сделала несколько глотков, посмотрела в окно, и ее лицо исказилось сомнением. – А почему вы изволите молчать, Тамила Ипполитовна? Так вам изначально было известно, кто он таков?
– Ну и что, maman? Это ведь не он украл Мирру.
– Отчего вы в этом так уверены? Вам не приходило в голову, что вас не случайно оставили одних, вдвоем? У молодых господ имелось соглашение с похитителем. И этот плебей тому подрядчик.
– Вам бы романы писать, – хмыкнула Тася, но сама призадумалась. В словах баронессы имелся резон. Все эти социалисты вращались в одной воронке, вполне вероятно, что Андрея с Николя и Степаном тоже попросили подыграть, подстроить, чтобы разбойнику вышло сподручнее. А тут еще Святки, гулянья, игривые частушки, гадалки и подвыпившие солдаты – все один к одному. Она всхлипнула и тоненько попросила: – Простите, мадам, у меня разболелась голова, позвольте я лягу?
Аполлинария Модестовна кивнула.
Следующие два дня Тася ждала объяснений с мадам Аксаковой или другими, загодя робела и тренировала всуе красноречие. Ей хотелось получить подробное письмо от Мирры, чтобы оправдать ее в собственных глазах, еще лучше – обзавестись recommеndation[12 - Recommendation – рекомендация (фр.).], что и как преподносить обществу. Однако письмоносцы ее не тревожили. На третий день Аполлинария Модестовна объявила, что они отбывают к бабушке Осинской в Кострому. Август Романович, младший брат papa, получил в тех краях завидный чин при городской думе, поэтому, овдовев, престарелая Исидора Альбертовна переехала к нему и к примерной провинциальной невестке родом из тех же мест.
Решение показалось очень выгодным: не придется лишний раз краснеть и выпутываться. Они наскоро собрались и послезавтра уже ждали поезда на подпирающем Каланчевскую площадь Ярославском вокзале. Под его шоколадным гребнем на толстобоком безе серые солдатские шинели перекликались с красно-белыми арками в мотивах древнерусского зодчества, а чесночно-ливерные запахи – с паровозными гудками. Среди мушиного роя встречавших они издали увидели Анну Валерьяновну. Тинь-цинь-линь-динь! Неужто Мирра надумала вернуться? Та вроде бы их заметила и быстренько отвернулась. Maman тоже скоро-наскоро притворилась невнимательной. Тасе стало зябко, чесноком завоняло дурнее прежнего. Госпожа Аксакова старательно смотрела в противоположную сторону. Все это донельзя печалило. Опять же злыдень Степан не шел прочь из головы, приходилось корить себя за безрассудную влюбчивость, за пустые, бестолковые фантазии.
Кострома встретила путешественниц холодным волжским ветром и новопостроенным Романовским музеем. Здание понравилось: неорусский стиль, теремок со сложным фасадом и башенками по краям. А от ветра только краснее щеки да ярче искрящиеся слезами глаза. Август Романович укутал невестку и племянницу примерным гостеприимством, оснастил заботой и комплиментами, отвел чудесные сатиновые покои и вверил заботам вышколенной прислуги. Тамила раньше часто навещала бабушку, пока та с дедом жила в Москве, и papa еженедельно обедал или ужинал у родителей. Тем обедам минуло десять лет. В Кострому же они наведывались нечасто, а после исчезновения Ипполита Романовича всего трижды – на поминальные торжества, на крестины и по случаю серьезной бабушкиной болезни. Этот раз стал четвертым.
Похоронив супруга, Исидора Альбертовна медленно угасала. Ничего не сохранилось от наивной розовощекой пианистки, что без памяти влюбилась в молодого Романа Осинского и радовалась подаренной на обручение Персефоне. Афронт с Ипполитом отнял большую часть оставшихся для жизни сил. Старая баронесса уже подобралась к тонкой черте небытия и вовсе не цеплялась за эту колготливую сторону – покой казался милее.
– Вы ладно ли живете с матушкой, Тася? – скрипела она, не поднимаясь с постели.
– Все в порядке, мадам, не стоит беспокоиться. – Тамила соврала с легким сердцем, резонно рассудив, что старенькой бабушке ни к чему слишком много знать. – Вы поскорее поправляйтесь и немедля приезжайте нас проведать. Москва по вам решительно соскучилась. Да я полагаю, что и вы по ней тоже. – Она лукавила: достаточно было взгляда на пергаментную маску лица, на высохшие, беспокойно теребившие одеяло руки, чтобы утратить все надежды.
Жизнь в доме Августа Романовича текла медленно, совсем иначе, нежели в Москве. Долгий завтрак сменялся приготовлениями к обеду, обсуждались по большей части пироги и студни. Тамила проводила дни в обнимку с книгами, много гуляла по патриархальным костромским улочкам, любовалась образцовым ансамблем Сусанинской площади, старинным Ипатьевским монастырем, кормила котов, играла с маленькой кузиной – одним словом, ждала, когда хлопоты затрут пересуды про Мирру или пока она сама не даст о себе знать.
Тусклые зимние недели ползли, как скучные студии в гимназии, и тут случилось нечто, обещавшее Мирриным подвигам скорое и легкое забвение: в конце февраля без приветствий, рукопожатий и книксенов в сердце Российской империи постучалась революция.
В первых числах марта его величество Николай Второй отрекся от престола в пользу великого князя Михаила Александровича. Это известие несколько запоздало в Кострому, его донесли в один день с отказом Михаила Романова от восприятия верховной власти. Началась эпохальная кутерьма: арестовали губернатора Хозикова, по улицам с музыкой прошагали расквартированные в Костроме 88-й и 202-й полки, городской голова Шевалдышев огласил с думского балкона телеграмму Родзянко о свержении и аресте членов прежнего правительства и назначении Временного комитета Государственной думы. Жизнь повернулась новым боком, с этой стороны Тамила ее доселе не рассматривала. Справедливость, общественные выгоды, равные права – от всего этого кружилась голова и непременно хотелось во всем этом поучаствовать. Читать газеты стало интереснее, чем любовные романы, ходить на митинги волнительнее, чем на балы. Август Романович проявил редкую предприимчивость и сумел занять место в новообразованном Комитете общественной безопасности. Он много растолковывал своему семейству и дорогим гостьям про грядущие реформы, про несостоятельность павшего самодержавия и потребность в решительных шагах по оздоровлению Отечества. Тамила слушала его, как ту несносную цыганку на Замоскворецкой набережной, только на этот раз она точно верила предсказаниям.
Лежачую Исидору Альбертовну не тревожили новостями. Тася старательно читала ей вслух Радищева и Баратынского, Гоголя и Сологуба. Старая баронесса делала вид, что слушала, но на самом деле ее мысли уже витали в другом царстве, где сладкозвучные строфы складывались не земными существами, а ангелами. В апреле она тихо угасла, ее отпел толстый протоиерей Лаврентий, на поминальный стол поставили кутью и блины, над могилкой водрузили каменный крест. Вот и все – больше у Тамилы нет бабушки. Жаль, что мало пришлось с ней побыть. Москвички задержались до сороковин и в начале июня отправились домой.
В окна только-только постучалось лето, сирень пахла грезами, мальчишки ее не обрывали и не продавали букетики на Цветном. Дворники перестали чинить жердяные подпорки для темно-зеленых плетей с огромными фанфаронскими цветами, потому что их все равно ломали. Москва одна тысяча девятьсот семнадцатого походила на пестрый, страшный и веселый карнавал. Исхоженный вдоль и поперек мир дал трещину, даже не одну, а сразу десять, из них вместе с лавой недовольства выглянуло новое лицо – раненое, злое, решительное. Как будто нарядная Россия приподняла свой тяжелый, шитый золотом и жемчугами подол и показала истасканные грязные сапоги с налипшими на них комьями недовольных – солью земли Русской. Новые москвичи вели себя как сварливые петроградцы, забыли о купеческом укладе и патриархальной чинности, без лести отзывались об отставном государе императоре и матушке-императрице, о фрейлинах и генералах, иногда говорили такое, что щеки воспламенялись не хуже революционного знамени. Госпожа Соколовская потеряла мужа: тот ушел чинить старую власть, а госпожа Брандт тревожилась за сына: он отправился помогать новой и попал под каблук Временного правительства. Мирра и ее скандальный побег больше никого не интересовали.
Степана она увидела на следующий день по приезде. Он ждал ее, прислонясь к арке ворот соседнего двора, усталый, грустный, совсем не похожий на зеленоглазого весельчака и тем паче на восточного князя.
– Как вы узнали о нашем возвращении? – Ее голос дал осечку – не звенел, а шуршал нервным шелком.
– Я не знал. Я просто ждал вас возле дома.
– Позвольте полюбопытствовать зачем?
Он пожал плечами, посмотрел поверх ее головы в сторону распоясавшейся сирени, потом нехотя промолвил:
– Нам, пожалуй, следовало бы объясниться.
Сбоку с треском распахнулось окно, гнусавый голос позвал кошку, в ответ замяукали соседние кусты. Они так и не объяснились, но этого уже не требовалось.
Тамила плюнула на все прежние знакомства и отчаянно кинулась заводить новые – с меньшевиками, эсерами, анархистами и кадетами. У всех имелись свои правды и доводы. Среди москвичей почти не осталось равнодушных, все поделились на реформаторов и ретроградов, все на кого-то нападали и кого-то защищали. Много огня, много искренности, много противоречивых доводов и, увы, пока мало проку. Но какое это имело значение, если сочувствовать не всем вместе, а одному-единственному? Степан прочно приклеился к большевикам, потому и ей они нравились более прочих.
При всем том понятном, что наладилось между барышней Осинской и опасным вольнодумцем Чумковым, он не мог быть представленным ее матери и открыто наносить визиты. Скандальное происшествие в доме Брандтов не затиралось никакими революциями, его сумел бы немножко подшлифовать Андрей, который, как назло, уехал в столицу, или кто-нибудь иной из старого круга, кому доверяла мадам Осинская. Требовалось свести все к невинной шутке. Решительно, Степан в тот раз изрядно сглупил.
Между ними не прозвучали главные слова: он не придумал, что сказать, а она пока не знала, что хотела услышать и как распорядиться своей будущностью, так что не кокетничала попусту. Выйти за него? Но это сулило скандал. Уломать maman? Это все равно что растить на подоконнике ананасы. Убежать тайком, как Мирра? Это, пожалуй, лучший финал, но повторялка – в ушке ковырялка. Временным, хоть и ненадежным выходом стало их общее участие в разномасштабных сборищах, что давало возможность почаще видеться без объяснений. Такие встречи случались нечасто, оттого долго переживались, смаковались, каждое слово обрастало новыми смыслами. Он не походил на прочих, в беседах не вилял, вопросы задавал без околичностей, не для того, чтобы покрасоваться. Отвечал на них тоже без фиглярства, прямо, так что даже спрашивать становилось страшно.
В разгар метаний пришло письмо от Мирры с легковесными извинениями за святочное происшествие, дескать, безвинной Тасеньке досталось ни за что от заплесневелых Фамусовых. Послание вышло коротким и ленивым, из него следовало, что подруга жила со своим избранником во взаимности и полном удовлетворении. Тамиле отчего-то легко удалось ее понять и простить, тем паче сословная иерархия в России порушилась, а скоро за ней воспоследует и все прежнее мироустройство.
Пока же окончательно сломались порядки в их квартире: уходили навсегда вещи, занавески на окнах не разжимали плотных челюстей, плотоядно скрежетал только что установленный уродливый амбарный засов. Множились и свирепели ссоры, в лексиконе Аполлинарии Модестовны появились новые, неожиданные слова:
– Вам еще не надоело сношаться с этим сбродом? Может, тоже изволите пойти на фабрику трусы шить? Впрочем, тогда хоть выйдет из вас прок, – заявила она в тот день, когда напрасно отстояла очередь за крупой и вернулась домой пустопорожней. Если раньше всем хозяйством заправляла Олимпиада, то нынче о пропитании надлежало заботиться всем вместе.
– А от вас, мадам, большой прок? – Тася не подняла глаз от штопки, спросила, как о рядовом ужине.
– От меня?
– Да. От вас. Какую пользу вы приносите этому миру?
– Я? Я воспитываю дочь. – Аполлинария Модестовна растерялась.
– Не меня ли, случаем? – Тамиле не удалось сдержать ухмылки. – Как я имею удовольствие наблюдать, это дело у вас решительно не задалось.
– Так вы вдобавок к неблагодарности изволите быть хамкой? Мне грустно признавать, но, кажется, нам надлежит всерьез обсудить тему вашего домашнего ареста. Мнится, что так моя задача решится скорее.
– Нет, мадам, мерси, мне недосуг, у меня… дела. Сейчас свободный век, и я свободная… личность.
– Вы обитаете под моей крышей и столуетесь за моим table d’h?te[13 - Table d’h?te – хозяйский стол (фр.).]. Не думаю, что мы должны обсуждать ваши свободы.