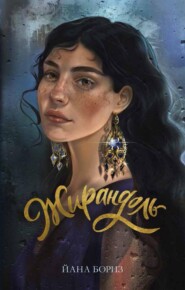По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О чем смеется Персефона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давайте найдем господина Брандта и прочих, здесь решительно страшновато одним.
– Пустяки! Чего же бояться, вон людей сколько! Одна беда – бока изомнут.
– Все же лучше не расставаться. – Тамиле вдруг стало зябко, она поежилась и продолжила: – Им ведь тоже тревожно, куда это мы с вами запропали.
– А что господин отставной студент? Объяснились? – Мирра будто не слышала ее.
– О чем вы? Решительно нет. Да и с какой стати? Не исключено, что у него совсем иные взгляды на сей предмет.
– Да полноте, говорю же! Он в вас неподдельно влюблен. Я же вижу. А вы, Тасенька, неподдельная дуралейка! – Она задорно засмеялась, и Тамила тоже улыбнулась заковыристому словцу.
– Глупости все это, maman все одно не позволит.
– Вот ведь вы!.. Честное слово!.. Зачем испрашивать позволения? Мы взрослые и вполне себе эмансипе. Вы даже венчаться можете хоть по указу Святейшего синода, хоть по Уложению! – Она нервно захохотала, черные кудри выбились из-под шапочки, плечи запрыгали.
Тамилу снова пробрал озноб.
– Уймитесь, прошу вас. Зачем эти глупости? Между нами ничего не сказано.
– Это так… так элегично – долгая прелюдия к объяснению. А у нас не так: скорострельно, бамс, бамс, и уже все решено.
– Что… что решено?
– Все! Я влюблена в социалиста и буду биться с ним вместе. Остальное – чепуха!
– К… как так? Правда? Вы не шутите? – Тамиле тоже захотелось биться, все равно с кем. Борьба – это не брак, это как служба, можно послужить, а потом выйти в отставку. Зато как любопытно и полезно для общества.
– Вы сами в скором времени все узнаете. Может статься, даже раньше. – Мирра взяла растерявшуюся подругу под руку и зашагала к мосту.
От балалаечников остались лишь крошки на прокорм сорокам, все прочие тоже убежали на ту сторону, только одинокая пролетка замерла у перил, явно кого-то поджидая. Барышни поравнялись с краеугольной тумбой: никого и ничего, вокруг темнота и холод.
– А зачем нам туда идти? – спросила Мирра. – Мы уже никого не догоним и не отыщем. Пойдемте обратно, я продрогла, да и заждались нас.
Тамила обрадовалась: она тоже замерзла и совершенно расхотела гулять по ночи без Степана. Вот он ушел с приятелями и потерял ее в толпе, не стал звать, искать, может оказаться, что и вовсе не вспомнил. О каком объяснении толковала Мирра? Он просто чужд ей, равнодушен. Он ведь старше, умнее, учился в университете, нынче ходит на службу. Он знает наверняка, что при их сословной разности все одно не удастся построить ничего путного. И зря она размечталась, и цыганка эта – вероломная выдумщица. И тинь-цинь-линь-динь тоже…
Замоскворечью надоело жечь костры и горланить песни, все, кому не спалось, отправились к Кремлю. Дворники разбирали головни, засовывали поглубже в снег, кое-какие из окон уже погасли, другие просто потускнели. Еще две ночи продлятся Святки, самое время ворожить и считать падающие звезды, потом все сказочное слопает скучная повседневность. Тамиле страшно захотелось снова повстречать давешнюю цыганку, порасспросить ее про суженого, про скорую свадьбу. Кого все-таки она имела в виду? Если смотреть на вещи широко, то имя баронессы Осинской в московских кругах имело вполне сносное звучание – больших капиталов за ней не водилось, но она и не бедствовала. То есть вполне могли отыскаться желающие породниться. Оно ведь как случалось: раз-два, pardon-plaisir, l’amour-toujours[5 - Рardon – извините. Рlaisir – удовольствие. L’amour – любовь. Toujours – всегда (фр.).] – и пожалуйте к венцу. Нет! Подобного с Тасей решительно не будет – без сердечного замирания, интриг, мучительной и сладкой ломоты. И вообще она пока не согласна ни на кого, кроме Степана, хоть он ей и не пара, разночинец, грубиян, бросил ее ночью на произвол ряженых попрошаек, вдобавок вырядился бусурманином и не соизволил должным образом представиться maman. Зато он непохожий – непонятно, пересоленный или пересахаренный, но решительно не пресный. И разговаривает своими собственными словами, и смотрит не как все. Правда, теперь непросто станет ввести его в круг, потребуется ретивая помощь Андрея и прочих. Эх, хорошо бы произойти некоему чуду, чтобы он стал ей ровней или богачом или совершил небывалый подвиг, за что государь император пожаловал бы дворянскую грамоту и деньги. Ведь в книжках такое случалось, и не раз. Взять, к примеру, «Аленький цветочек»: все думали, что это чудище, а он оказался заколдованным принцем и писаным красавцем. Впрочем, Чумков и без того писаный красавец, так что титула и богатства вполне достаточно.
В Голутвинском переулке что-то мелькнуло – показалось, что снова цыганки. Тамила ускорила шаг, Мирра не отставала. Никто не давал головы на отсечение, что те не вырядились просто по случаю гулянья, а на самом деле каждодневно жили простыми русскими бабами – ткачихами или поварихами, но от них пахло чем-то ненашенским, диким и первородным, так что надлежало хорошенько принюхаться. И куда они подевались так неожиданно и некстати? Барышни, не сговариваясь, завернули в переулок, на противоположной стороне с карниза сорвалась и разбилась на сотни осколков отъевшаяся за праздники сосулька. Сзади раздался скрип и негромкие тычки копыт по наледи, как будто лошадь надела валенки. Тася воспряла: топать в темноте и тишине представилось неуютным и несвоевременным, лучше, как поначалу, в шумной и голосистой толпе.
– Тпр-ру! Стоять, кумушки мои! – донесся негромкий окрик.
Они остановились в ожидании нового розыгрыша, губы приготовили очередную улыбку. Ну, кто на этот раз: овцы или волки? Верткая Мирра обернулась первой, Тася собралась тоже посмотреть на шутников и встретила лошадиную морду. Дальше все чернело и путалось: всадник, мохнатая шапка, что-то бородатое, длинная шашка на боку. И тут же ей на голову опустился пыльный мешок – по всей вероятности, в нем долго хранилась картошка и даже успела подгнить. От неожиданности каблучок подвернулся, она повалилась на землю, руки уперлись в снег, но холода не почувствовали. Мешок закрывал и без того невнятный мир, стало тяжело дышать и отчаянно, безнадежно страшно. Мирра не издавала звуков, будто провалилась или, наоборот, улетела. Сейчас подержать бы ее за руку, но пальцы онемели, не слушались. Итак, это оказались волки. Что им надо? Тамила со страхом ждала очередного повеления, но никто не спешил ее вязать, бить, взваливать на плечи и тащить. Она просто сидела на снегу с мешком на голове и проклинала всех и вся, но в первую очередь почему-то Степана, что бросил ее ночью на неспокойной улице с одной лишь слабосильной подружкой и вовсе без надежды на счастливый исход. Мимо снова протопала обутая лошадь – тинь-цинь-линь-динь! – и все стихло.
Посидев еще немножко, она решилась подать голос:
– Не угодно ли, господа, объясниться? Если это розыгрыш, то решительно несмешной. Нам наскучило сидеть в мешках, будьте любезны освободить нас и отпустить домой.
Ей никто не ответил, Мирра почему-то не подавала голоса и даже не шевелилась поблизости. Через минуту Тамила осмелела и попробовала стянуть с головы мешок. Он легко подался, скоро перед глазами снова встал неприглядный Голутвинский переулок, темные окна единственного фасада по ту сторону и глухой забор по эту. Вокруг не обнаружилось ни людей, ни коней, ни повозок, ни ряженых. Она ойкнула и позвала. Ответ потерялся в черноте. Звезды с луной ушли в отставку, не желали дружить с ней, с дуралейкой. В горле запершило, по щекам полились горячие слезы, она так и не встала на ноги, сидела и подвывала, как юродивая, потому что Мирры тоже нигде не было.
Глава 2
Апартаменты Осинских в доходном доме по нечетной стороне Старомонетного переулка состояли из пяти жилых комнат, не считая столовой и вестибюля. Знать здесь селилась нечасто, но барон в свое время пленился ценой за съем и новизной постройки.
Слева, если считать от входа, белела плотно закрытая дверь в хозяйский кабинет, спаянный арочным проемом с опочивальней. Обе комнаты пустовали уже пятый год. Справа помещалась гостиная. Там главный гость – фортепиано, вокруг него собралось общество кресел и пуфиков, стены спрятались за картинами. Самое большое полотно живописец по иронии судьбы не успел или не захотел дописать, но это не помешало баронессе отдать ему самое почетное центральное место. С него улыбалась сама хозяйка: молодая худощавая мадемуазель в фиолетовой шляпе. Завитые локоны спускались к плечам черными лентами, хотя на самом деле они рыжевато-пепельные, ни туда ни сюда. Нос вышел удачно – римский и не терпящий возражений. С возрастом он почему-то вырос на пол-лица. Глаза на портрете сияли коньячными каплями, а вот щеки у художника не задались – обвисли брылями. Он пробовал их замазать, запудрить вуалеткой, однако не завершил работы и фон тоже не дописал: вроде хотел повесить за спину зеркало, чтобы она похвастала прекрасной стройной спиной, но успел только накидать сиреневой грязи и подбелить углы.
Спальня madame[6 - Мadame – госпожа (фр.).] пряталась за поворотом. Она вышла крохотной по сравнению с апартаментами monsieur[7 - Мonsieur – господин (фр.).], зато нежилась в жарких объятиях лилового шелка. Комната самой Тамилы ненамного превосходила ее размерами, но казалась просторной и светлой по причине беленых стен.
В квартире имелись еще три бытовых помещеньица: в одном прежде жила няня, нынче – отжившее старье, во втором – экономка, третье служило чуланом. Столовая примыкала к гостиной, кухня и уборная не в счет. Небогато, но вполне сносно.
Пока с ними жил papa, жилище полнилось звуками: его вечно простуженным голосом, чиханием, шуршанием страниц. Ипполит Романович увлекался Азией, публиковал статьи, водил знакомства в Петербургской академии и верил, что будущее Российской империи смотрит не на Запад, а на Восток. С отцом Тамила никогда не ссорилась, этой привилегией владела исключительно баронесса. Большую часть времени он проводил у себя в кабинете, шагал из угла в угол по пестрому бахромчатому ковру, расставлял на полках книги с непонятными ниточками букв, на подоконниках – цветные булыжники и помятую медную посуду. Со временем сюда перекочевали из прочих комнат картины – два пустынных пейзажа и авангардное полотно с перелетными птицами. Остальные немалые площади занимали странненькие настенные украшения из свалянной шерсти, самотканые коврики с арабской вязью – кривенькие, даже грязноватые. Maman только однажды заикнулась, чтобы отдать их почистить, но papa страшно замахал на нее руками и встал грудью на оборону своих сокровищ.
В те мирные допотопные времена Аполлинария Модестовна велела прислуге и дочери не донимать барона, но маленькая Тася все равно заходила в кабинет, молча присаживалась на скрипучий кожаный диван, разглядывала что-нибудь диковинное – тисненые кожи или деревянную посудину без ручки. Отец к ней не поворачивался, горбился за столом, завороженный чужой непонятной историей. Он не гневался на нее и не прогонял, иногда рассказывал анекдот про какую-нибудь вещицу, но чаще давал в руки книжки, мол, сама читай. Брошюрки попадались неинтересные, с заумными словами и без картинок. Изредка, если Ипполит Романович видел, что дочери совсем уж неуютно, он откладывал свою писанину, брал ее на руки и бормотал сказки. Он их вычитывал в толстых недетских фолиантах, а для нее перекладывал на понятный язык. Получалось не всегда метко, чаще кривобоко, но оттого еще смешнее. Ей тогда нравилось путешествовать караваном по пустыням, лазать в подземные храмы (отец называл их мечетями), ссориться с бедуинами и дервишами, выхватывать из тандыра горячие лепешки, спать в матерчатых шатрах под открытым небом. Она сочувствовала отцу и почему-то думала, что он найдет клад. Непонятно, откуда брались подобные измышления, потому что тайники и сокровища в кабинете не упоминались. В одна тысяча девятьсот девятом году Тамиле исполнилось девять, и Осинский надолго уехал в экспедицию с Сергеем Федоровичем Ольденбургом. Связь между ним и единственным дитем оскудела, как кулич, куда прижимистая хозяйка пожалела изюма. Когда он вернулся в Москву, уже никакие сказки и караваны не нарушали глухую тишину квартиры.
Между первой и второй экспедициями papa много бегал по чужим заданиям, дочь ему сопереживала, хоть и не совсем понимала, в чем суть. Но когда он уехал снова, коротко и без подлинного чувства чмокнув ее в повзрослевшую щеку, почему-то накатила обида. В тайниках невзрослой души она надеялась сопровождать его, тоже плутать по степи, собирать диковинные вещицы и интересные полузабытые истории.
Война началась через два года, как Осинский вторично уехал в Туркестан и потерялся, остался в проклятой Богом Азии. Дочь рыдала, а maman закусила губу и что-то долго писала в своем будуаре под лампой голубого бархата. Письма стаями летели в посольства и государю императору, наместникам и в военные части, но страна азартно воевала, и один потерявшийся в далеких степях человек не так много значил для казны и для престола. Дочь, порывистая, как все Осинские, поклялась, что вырастет – вот-вот, совсем скоро! – и сама поедет в Туркестан на поиски. Надо только дождаться, чтобы ей позволили возраст и банковский счет. Она не сомневалась, что papa жив, просто он захвачен в плен башибузуками или лежит, пришибленный скатившимся с горы камнем. Или ранен, но не всерьез. Или ждет денег, а пока учит китайских детишек русскому языку. Ничего, он еще оклемается и приедет в Москву разбирать свой кабинетный хлам, потому что без него в квартире, да и во всем Старомонетном переулке, стало сумрачнее, холоднее, крыши надвинулись на мансарды, как недовольные шапки на хмурые лбы, ветла под окном стала скрипеть натужнее и злее. Одна мраморная Персефона равнодушно созерцала из своего угла покривившийся мир, допотопные языческие узоры на противоположной стенке и слушала фальшивые вздохи приходящей прислуги по поводу несчастливо сгинувшего хозяина. А вскоре, в очередной раз повздорив с Тамилой, Аполлинария Модестовна заперла эти помещения на ключ и запретила туда наведываться. Странная епитимья.
Война и бродивший вдоль витрин бунтарский дух способствовали быстрому взрослению. А потом ее утащила Мирра, и все закрутилось. Да еще у нее появилась неправдоподобная и невзаимная любовь, коей maman – злейший враг.
Утро накануне Крещения одна тысяча девятьсот семнадцатого выдалось самым худшим за всю жизнь. Тамилу разбудила громогласная Олимпиада, впереди ждали новые мучения, полицейский участок, дознавательства, позор, обидные слова матери. Однако ехать почему-то никуда не пришлось – наверное, мир просто сошел с ума.
Прошедшей ночью по дороге от злодейского Голутвинского до Брандтов ей казалось, что вокруг одна бесконечная дыра, пропасть, куда затягивает всю Москву, Россию и даже Землю, а сама она – едва живая снежинка: дохни пожарче – и растает. Вернувшись на Малую Ордынку заплаканной, испуганной и не совсем чистенькой, Тася на все вопросы отвечала односложно, дескать, не знаю, не видела, не заметила. Красный, сильнее обычного вытянувшийся Михайличенко размахивал паучьими руками, большой плотоядный рот плешивого Мишеля выплевывал слова, как ядовитые ягоды, веселые глаза Николя жадничали до подробностей, Илона отчаянно ревела. Ни Степан, ни богатыри из гвардии Черномора в особняк не вернулись; наверное, и Андрей предпочел бы шататься до утра, кабы не барышни. Потом от нее отстали, все поплыло перед глазами, сил едва хватило, чтобы залезть к матери в двуколку, хоть от Брандтов и идти-то меньше получаса.
Итак, Мирру похитили, ей грозила настоящая опасность… Или все-таки ненастоящая? В последнее время вокруг нее вертелся какой-то неприемлемый ухажер то ли из цыган, то ли из горцев – черный, кудрявый, с неспокойным темным взглядом и гусарскими усищами. По некоторым признакам Тамила догадалась, что Миррино сердце неспокойно билось в его присутствии. Кавалер следовал вошедшей в моду революционности, так что двери дома Аксаковых для него оставались прочно запертыми, но разве ее пустоголовую подруженьку могло остановить такое препятствие? Чего-чего, а смелости той не занимать и дури тоже… Или все-таки опасность настоящая? В Миррином семействе никогда не водилось завидных капиталов, матушка происходила из старинного рода, а батюшка – из захудалого. Они слыли ретроградами, хоть отец и докторствовал. Если бы господин Аксаков не отправился во фронтовой госпиталь, всем пришлось бы легче… Или все-таки случившееся в Голутвинском переулке не взаправду? Горский черноус, судя по всему отъявленный сорвиголова, безоглядной Мирре такой и потребен… Но каков их расчет? После такой скандальной истории в общество все равно не войти, а, впрочем, кому нынче оно нужно?.. Интересно, смогла бы сама Тася так же безоговорочно и безвозвратно уйти?..
Для Анны Валерьяновны Аксаковой это утро началось еще хуже. Она лежала не разоблачаясь в своем будуаре и в который раз перечитывала доставленную за полночь записку. Ее принес заморыш в несоразмерном его кудлатой голове картузе.
– Пожалте на баранки, господары-ыня, – прогундосил он, протягивая одной рукой конверт, а вторую просто так, сложенную ковшиком для подаяния.
– Да-да, разумеется. – Анна Валерьяновна схватила с полки кошель для разных ненужностей, выцарапала из него алтынник, потом подумала и пошла удить снова. Через полминуты у нее в пальцах уже плясал пятиалтынный. Если бы она знала, что в той записке, не пожалела бы и целкового. Или, наоборот, прогнала бы разносчика с крыльца поганой метлой.
«Драгоценная моя матушка, не обессудьте. Я влюблена, и нешуточно, сердце мое более мне не принадлежит. Любя всей душой вас, и батюшку, и братьев, не нахожу в себе сил противиться иному могучему зову. Мне доподлинно известно, что избранник мой не будет встречен вашими нежнейшими объятиями, и само венчание наше невозможно и невообразимо, потому как он не христианин. Ваша бедная дочь, ваша крошка безвинно страдала последние месяцы, впрочем не подавая виду, чтобы не ранить ваше любящее сердце, однако вчера ночью все переменилось. Я не помышляла тайно бежать, но горячая кровь моего суженого велела иначе. Письмо это я пишу для того, чтобы вы не терзались и не искали меня. Со мной все благополучно, я под защитой надежного человека отныне и навсегда. Ответа от вас я ждать не буду, сейчас вам надобно время, чтобы понять меня и простить. Позже я буду иметь удовольствие затеять настоящую взрослую корреспонденцию и подробнейшим образом поведаю о себе, своем бытовании в чужом краю и своем спутнике, на чью руку буду опираться всю жизнь. Однако, если вас не затруднит, могли бы вы отправить деньгами часть моего приданого? Буду ждать его в Баку, и знайте, что вы нас очень выручите подобным вспомоществованием. Мы нынче же вечером уезжаем к нему на родину, и будь что будет. Любящая и преданная вам всей душой дочь Мирра».
Анна Валерьяновна прочитала три или четыре раза, потом сложила листок, посидела с ним, как с горячей чашкой чая, боясь обжечься, снова развернула и еще пару раз пробежала по строчкам. Буквы не поменялись, смысл слов оставался прежним. Ее преступная шестнадцатилетняя дочь сбежала с нехристем. Теперь их ославят на всю Москву, хоть святых выноси.
Так она и провалялась всю ночь, измяла платье, и теперь красные глаза смотрели зло на весь непроснувшийся мир. Дверной молоток дал оплеуху больной голове. Мадам не стала дожидаться засони горничной и сама распахнула дверь. В утренних сумерках переминалась лошадь, фыркала и роняла на мостовую дымящиеся кругляки навоза. Это пожаловал полицмейстер, и с ним предстояло объясниться. Нет! Только не сейчас!.. Его удалось выпроводить… Как теперь жить? Чем спасаться? Куда стремиться? Она вздохнула и уселась писать подробное изложение событий для супруга. Лучшее в создавшейся ситуации – никуда не спешить, не бежать и не топать ногами, а хорошенько посоветоваться и найти правильный выход. К Осинским она отправила записку, дескать, все отменяется, погони и перестрелки не будет.
Между второй и третьей страницами Анна Валерьяновна проголодалась и расценила это как добрый знак. Она велела накрыть le petit dеjeuner[8 - Le petit dеjeuner – завтрак (фр.).] и уже за кофеем поняла: прежде всего следовало порадоваться, что Миррочка жива, цела и невредима. А все прочее – луковая шелуха.
Тамила безуспешно прождала новых мучений. Когда извозчик передал записку, Аполлинария Модестовна молча удалилась к себе, не сказав дочери ни слова. У Таси не случилось подруг ближе Мирры, потому переживания выпали нешуточные. Вдруг Анна Валерьяновна не едет за ней, потому как нашелся хладный труп? Или, наоборот, ее дочка вернулась домой целешенька и теперь отсыпается? Сердечная конфидентка то представлялась избитой, испоганенной, изуродованной, даже мертвой, то совсем иначе – довольной и счастливой, сумевшей всех провести и сбежать с желанным цыганом. Эти терзания за одно утро вытянули Тасино личико, смыли с него краски, изогнули подковкой пухлые губы, превратили глаза в пустые плошки. Она посмотрела в зеркало: дурнушка! На такую никто не польстится, даже самый захудалый кавалер, не то что непохожий на прочих Степан. Да, воспоминания про господина Чумкова не получалось выкинуть из головы при любом, даже самом печальном ходе размышлений.
После полудня Аполлинария Модестовна наконец соизволила пригласить дочь на беседу. Тамила вошла с опущенными плечами, бледнее прошлогоднего снега, серее пасмурного января. Она боялась услышать страшное.
– Как вы изволите это понимать? – Maman мешала серебряной ложечкой чай в нежно-голубой чашке дорогого кузнецовского фарфора, звенело так, словно в соседнем монастыре били в набат.
– Что… что именно?
– Ваша cher ami[9 - Сher ami – сердечная подруга (фр.).] барышня Аксакова сбежала с неизвестным женихом, сделав всем неловкость. Вы, как я смею полагать, были в курсе и лгали в глаза всему обществу, едва не доведя нас до удара. И господин Брандт после вчерашнего слег. И Евдокия Ксаверьевна сетует на головную боль. Я не удивлюсь, если после подобного происшествия перед нами закроются двери всех приличных домов. – Она говорила еще что-то, укоряла, винила, обличала, но во всем этом бесконечном клубке Тамила уцепилась за одну спасительную ниточку: Мирра жива, она-таки сбежала со своим возлюбленным.