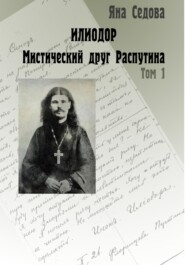По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Илиодор. Мистический друг Распутина. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Приукрасили и расцветили его в эту Пасху особенно ярко. Сплошь в лампадочках и разноцветных фонарях.
Особенно великолепны были колоссальные фонари в виде храмов, неведомых зданий и причудливых фигур, протянутые в самом центре монастыря на проволоках».
Такова была иллюминация. Но вот началась заутреня. Запели тропарь Пасхи.
«Десять тысяч голосов, как апокалипсические громы, подхватили.
"Смертию смерть поправ"…
Напев перекинулся из храма во двор, оттуда за ограду; средневековые корпуса монастыря затряслись в море звуков.
Прорвалось!
Можно было умереть от нахлынувшего неизобразимого чувства».
Однако, увидав, что о. Илиодор выходит к народу с какой-то речью, Ламакин не на шутку испугался: сейчас испортит общий молитвенный порыв политической проповедью. Но проповедь оказалась странная. О. Илиодор говорил, «что Бог приемлет пришедшего и в шестой, и в девятый, и в одиннадцатый час». «Говорил, вопреки обыкновению, на славянском языке, и это меня особенно поразило». Огласительное слово Иоанна Златоуста! Но Ламакин, по собственному признанию, об этом святителе «действительно только что слышал, да и то одним ухом». По-видимому, на том же уровне пребывали и знания журналиста о пасхальной заутрене, отчего он и оконфузился на всю Россию со своей царицынской корреспонденцией.
В первый день Пасхи после вечерни о. Илиодор раздал богомольцам красные яйца, пояснив, что сам он сейчас положит красное яичко на могилу «нашего возлюбленного брата Андрея» со словами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!», и если кто последует этому примеру, то все приношения будут переданы бедным. Действительно, почти все собравшиеся в храме вслед за пастырем отправились к могиле и стали класть на нее яйца, куличи, пасхи и деньги, так что поверх могильного холма появилась гора из пожертвований.
После этого о. Илиодор дал краткое интервью Ламакину, всячески подчеркивая, что со своей стороны не желает продолжать прежнюю борьбу. На вопрос о врагах ответил: «Э, ну их совсем!». Затем Ламакин побеседовал с ближайшими сотрудниками о. Илиодора, причем у Шмелева даже побывал в гостях. Всем увиденным корреспондент остался доволен.
По-видимому, именно об этом эпизоде о. Илиодор на другой день рассказывал народу, что в неточной газетной передаче выглядело так: «Враги наши мало-помалу начинают покоряться нам. Один из главных врагов, член Государственной Думы (фамилии я не буду называть, ибо врагов у нас слишком много) пришел под Пасху в монастырь и ему понравились богослужение и монастырская благочестивая жизнь. Бог даст, все враги покорятся…». Ламакин не был членом Государственной Думы, но речь, очевидно, шла о нем.
Вскоре в «Московских ведомостях» появился цикл «царицынских впечатлений» Ламакина. Пока корреспондент писал о том, что видел своими глазами, то есть о празднике Пасхи, можно было только радоваться за монастырь, получивший такого бытописателя. Однако Ламакин счел нужным написать и о том, чего не видел, – о недавней осаде монастыря (№№89 и 93 «Московских ведомостей»), выставив преосв. Гермогена в неблагоприятном свете. Позже владыка ответил обширным письмом на имя редактора.
По случаю праздника илиодоровский лагерь обменялся поздравительными телеграммами с архипастырем, причем сподвижники о. Илиодора благодарили еп. Гермогена за защиту своего батюшки, а владыка, в свою очередь, поблагодарил всех, кто боролся в минувшие дни за свободу церковных начал.
Сам о. Илиодор, совершенно истощенный всем происшедшим, на Светлой слег с ревматизмом.
Пока плоть немоществовала, дух оставался бодр. О. Илиодор уже задумал что-то сногсшибательное. Еще в Великую Субботу (9.IV) он вместе с «Ольгой» – очевидно, О.В. Лохтиной – телеграфировал Григорию Распутину в Иерусалим: «Благослови дело [за] свободу церкви». Затем была болезнь, а на Антипасху о. Илиодор уже снова оказался на ногах с таинственной проповедью (17.IV). Вся Россия и весь мир, говорил он, удивляется молитвенным подвигам его последователей. Впереди великое дело, которое предстоит совершить Царицыну для всей России. Тогда она обновится и будет благоденствовать. Расшифровать эти туманные намеки очень сложно ввиду того, что в голове о. Илиодора всегда роилась добрая дюжина проектов такого рода, и неизвестно, какой из них подразумевался в данном случае. Однако отдельные факты складываются в любопытную картину.
Чудо с оставлением его в Царицыне породило в нем мысль о своем особом призвании именно на этой земле. «Из того, что я уже дважды по повелению Самодержавного Императора Всероссийского, вопреки беспримерно сильному желанию врагов всего свято-русского, оставлен в г. Царицыне, видно, что Господь, в руках Которого сердце Царя-Помазанника Божия, благословил сугубым благословением мое пребывание в одном из крупных центров Поволжья и совершение святого дела, ради которого, как вам известно, мне пришлось по воле Божией, для вящего торжества и православия и самодержавия и силы духа русского перетерпеть большую беду. … Полагаю, что благоугодный для меня и для русских православных людей утешительный конец царицынского дела повелительно требует от меня более широкого применения того, что мне предназначил Господь».
Для начала следует сказать, что о. Илиодор предполагал расширить свой монастырь. Во-первых, задумал выстроить еще один храм на 15 тысяч человек, поскольку существующий 7-тысячный уже не вмещал всю паству.
Кроме того, священник вновь, как и в 1908 г., обратился к городской думе с «сердечной покорнейшей просьбой» о передаче монастырю примыкающего к нему огромного пустыря. Если в прошлый раз о. Илиодор просил 3120 кв. саж., то теперь его аппетит разгулялся до 6440 кв. саж. План использования пустыря оставался прежним: «предлагаю разбить сквер для благого приличного провождения народом праздников, построить богадельни, приюты, дома трудолюбия, церковно-учительскую, причетническую и миссионерскую низшие школы с ремесленными классами и монастырским содержанием беднейших учеников».
Но дума ненавидела о. Илиодора. Не помогло даже личное обращение преосв. Гермогена к губернатору. Рассмотрев ходатайство, дума отклонила его закрытой баллотировкой большинством 21 против 14.
Конечно, о. Илиодор был огорчен отказом: «я просил площадь не для устройства кабаков, а для святого и доброго дела». Попытка добиться пересмотра думского постановления была встречена новым отказом. С горя о. Илиодор предсказал, «что благословения Божия на трудах Думы в предстоящее четырехлетие никакого не будет: денег будет истрачена целая уйма, будет надета на город долговая денежная петля, а толку будет столько, сколько у лысого на голове волос». И грозил всенародно проклясть гласных перед алтарем, как только узнает их имена.
Впереди о. Илиодора ожидало еще большее оскорбление. Отказав монастырю, дума передала пустырь под базар! Священник негодовал: «Народные лиходеи хотели отомстить Илиодору и отомстили бедному народу, которому я хотел построить школы, приюты и богадельни. В древности народ таких благодетелей, выведя в поле, побил бы камнями».
Но сейчас, в апреле, не предвидя этого будущего, о. Илиодор ожидал исполнения думой его «сердечной покорнейшей просьбы».
Однако не один Царицын владел его мыслями в эти дни. В конце апреля скончалась 75-летняя казачка Донской области Денисова, которая в прошлом году завещала илиодоровскому монастырю 100 десятин земли около станицы Александровки Ростовского округа Донской области. Перед кончиной благодетельница, уже два года проживавшая в монастыре, удвоила свое пожертвование. Там же на Дону, в Сальском округе, поблизости от станиц Великокняжеской и Павловской, и всего в 8 часах езды по железной дороге от Царицына находился Гремучий колодезь, вырытый в донских степях, по преданию, свв.Кириллом и Мефодием, святыня в руках калмыков, которую о. Илиодор посещал и в детстве, и не далее как в прошлом году.
По-видимому, собрав все эти впечатления воедино, он задумал распространить свою деятельность на родной край. Воображению о. Илиодора рисовалось колоссальное религиозно-патриотическое движение, подобное почаевскому, охватывающее Поволжье и Дон, с центром в Царицыне. «Нужно, непременно нужно Царицын сделать твердым, могучим, несокрушимым оплотом православия, русской государственности». А из него свет разольется по двум рекам – Волге и Дону. «Пока еще только одна крепость, – Царицын; нужно бы везде такие», – говорил о. Илиодор. Он мечтал о сети патриотических «благотворительно-просветительных» монастырей, таких же, как его собственный. Кроме того, о создании благотворительных учреждений и школ. Например, при Гремучем колодезе он хотел устроить миссионерскую школу для обращения калмыков в православную веру: «не пройдет 10-15 лет, как в донских степях не будет язычников, ибо мы их сделаем всех православными христианами, а то мы посылаем миссионеров в Японию, Китай и другие государства для обращения язычников в православную веру, а у себя под боком не видим их».
В конце апреля (между 20 и 26.IV) о. Илиодор таинственным образом исчез из монастыря, по слухам, вызванный какой-то телеграммой. «Вы помните, дети мои, что недавно я уезжал от вас "куда-то"? – говорил потом о. Илиодор. – Я тогда вам не сказал, куда уезжал, да и сейчас не скажу. Пусть пока это так и останется: "Куда-то уезжал"».
Впрочем, репортеры все разнюхали, и «Новое время» буднично написало, что о. Илиодор ездил в ст. Качалинскую (Донской области), в 50 верстах от Царицына, по поводу пожертвования умершей Денисовой. Однако при столь прозаической цели иеромонах не интриговал бы так свою паству. Его экивоки заставляют подозревать за простыми хлопотами по наследству другие, скрытые цели. Это предположение отчасти подтверждается следующим газетным сообщением: «Илиодор осмотрел землю и остался ею доволен. В скором времени он перенесет сюда свою деятельность из Царицына». Наивный репортер не понимал, что о. Илиодор перерос масштабы какого-либо одного города и развернется вовсю лишь тогда, когда перешагнет губернские границы.
Поздно вечером 26.IV о. Илиодор, находясь в Царицыне, уже совершенно открыто сел на пароход «Императрица Александра». Провожать явилась огромная толпа, запрудившая всю набережную. С площадки парохода виновник торжества произнес речь.
Любопытно сопоставить телеграммы разных корреспондентов в связи с этим. Согласно «Голосу Москвы», о. Илиодор говорил здесь о прощении врагов, а по словам «Речи» «Илиодор с площадки парохода говорил зажигательные речи об угнетении бедных богатыми; о раскрепощении народа, сначала физическом, потом духовном; громил русскую интеллигенцию». Набор штампов, перечисленный во втором случае, заставляет предположить, что корреспондент «Речи» на месте события не был и свой отчет сочинил.
Прощаясь с паствой, о. Илиодор не удержался от жестокой шутки по мотивам пережитых скорбей: «Вы знаете, откуда я приехал? Я приехал ведь из Крыма, а теперь еду в Новосиль…».
Наконец под пение гимна и крики «ура» он отбыл «по неизвестному направлению», как выразился корреспондент «Нового времени», хотя у Волги, казалось бы, есть только два направления – по течению и против течения. В настоящее время о. Илиодор плыл вверх по течению, наметив следующий маршрут: в Саратов, затем в Саров на богомолье, оттуда дня на два в Петербург и затем назад в Царицын, с тем расчетом, чтобы вернуться до воскресенья перед праздником Вознесения, т.е. до 15.V, и успеть последний раз пропеть Пасху вместе со своей паствой.
В Саратове о. Илиодор остановился, как обычно, в архиерейских покоях. Уже в день приезда ему предстояло важное дело: вместе с преосв. Гермогеном он посетил губернатора Стремоухова.
Губернатор уже успел невзлюбить преосвященного ввиду его роли в недавней царицынской истории. Отношения осложнил инцидент, произошедший в Великую Пятницу 8.IV. Высшие власти, по традиции, присутствовали на вечерне в кафедральном соборе, чтобы вынести Плащаницу. Свящ. Ледовский произнес проповедь, именуя гонителей о. Илиодора «Пилатами, Иудами, Каиафами, Синедрионом» и т.д. Нынешнего губернатора проповедник прямо не упомянул, зато о его предшественнике отметил, что тот был лишен «всяких нравственных и религиозных чувств».
Губернатор, ухитрившийся какую-то часть этой проповеди принять на свой счет, понял, что она произнесена с благословения архиерея, чьи «выразительные глаза засветились особым огоньком». Однако, по примеру гр. Татищева, Стремоухов сдержался. Впоследствии сетовал, что после проповеди ему «пришлось покориться судьбе, подходить к кресту и целовать руку». Правда, во время вечерни с выносом Плащаницы к кресту не прикладываются, но очевидно, что губернатор в полном соответствии с рекомендациями Столыпина старался соблюдать «все внешние формы». Сохраняя видимость мира, он считал себя в состоянии войны с архиереем.
Однако преосв. Гермоген не терял надежды на сотрудничество с новым губернатором и потому посетил его в сопровождении о. Илиодора (29.IV). Впрочем, по большей части говорил один владыка, а «Илиодор вел себя весьма скромно», как запомнилось Стремоухову.
Посетители попросили губернатора содействовать передаче царицынскому монастырю примыкающей к нему площади и, кроме того, пожаловались на Василевского и Семигановского. Между прочим, преосв. Гермоген высказал предположение, что именно Василевский информировал Ламакина в неблагоприятном для архиерея смысле, и просил об удалении полицмейстера, грозя в противном случае вынести этот вопрос на церковную кафедру. Губернатор же, в глубине души подозревавший, что источником ламакинских корреспонденций был илиодоровский лагерь, защищал Василевского, указывая, что он корректен и отрицает свою причастность к этому делу. Что до Семигановского, то посетители «очень энергично» обвиняли его в оболгании о. Илиодора.
Усилия духовенства найти общий язык с губернатором оказались тщетными. «Скоро беседа, совершенно неклеившаяся, пресеклась, и оба посетителя меня оставили», – писал он.
По-видимому, визит еп. Гермогена и его жалоба на Василевского с Семигановским стали последней каплей в чаше терпения губернатора, который 8.V написал Столыпину письмо с подробной характеристикой сложившегося положения. Стремоухов констатировал, что о. Илиодор при поддержке архиерея добивается освобождения от надзора властей и прессы, желая, таким образом, «обратить царицынский монастырь в место, недоступное для полиции и администрации», то есть «завоевать себе полную автономию», чтобы воспользоваться ею «не ко благу правительства».
Приложенный к письму доклад содержал сводку последних провинностей о. Илиодора, которых ввиду его новой тактики набралось очень мало. Однако губернатор все-таки делал вывод об опасности действий иеромонаха как в политическом, так и чисто в бытовом смысле, так как монастырь-де того и гляди развалится.
Стремоухов не смущался даже Высочайшим повелением оставить о. Илиодора в Царицыне. Во-первых, губернатор утверждал, что эта милость исторгнута из «любвеобильного сердца обожаемого монарха» обманом. Народные симпатии к священнику «возбуждались искусственно, путем систематического, строго рассчитанного взвинчивания темных масс», а часть подписей была якобы фальсифицирована. Во-вторых, «Государь Император простил иеромонаха Илиодора "во внимание к мольбам народа", однако Его Величество никогда не изволил выразить, чтобы Он признавал его правым». В-третьих, Высочайшее помилование усугубило дело: «милость Государя, упавшая в не заслуживающие того души, не просветила их, а напротив побудила их только возгордиться и далее идти по пути своеволия и презрения к существующим формам».
Да, «души» во множественном числе, потому что губернатор считал «епископа Гермогена столь же виновным в создавшемся положении, как и иеромонаха Илиодора»: «без еп. Гермогена иеромонах Илиодор ничтожен». В лучших традициях гр. Татищева Стремоухов изложил инцидент при выносе Плащаницы и требовал удаления преосвященного из Саратова. При этом условии губернатор обещал справиться с о. Илиодором уже своими силами: «я берусь свести его отрицательную деятельность на нет, если еп. Гермоген оставит Саратов». В противном случае «положение высшей правительственной власти в губернии станет совершенно невыносимо».
Словом, Стремоухов пошел по стопам своего предшественника. Сбывались опасения еп. Гермогена, что и с новым губернатором сладу не будет.
Не ограничиваясь письменным докладом, Стремоухов лично отправился в Петербург – формально для доклада о состоянии губернии, но фактически по илиодоровскому делу. Однако Столыпин «развел руками», отказался «растравливать муравейник» в правом лагере и предложил губернатору самому поднять этот вопрос перед Государем, причем будто бы советовал пригрозить отставкой.
Надо отдать должное стремоуховской силе воли – он не остановился даже перед этой крайней мерой. Вскоре губернатор получил от Столыпина еще один совет – не вмешивать имя Распутина. Совет был дан экстравагантным способом:
«Накануне аудиенции вдруг ко мне в номер гостиницы "Франция" раздался звонок по телефону.
– Кто у аппарата?
– На фотографической группе три лица. Говорите только о двух ваших, третьего не касайтесь.
– Да кто говорит?
Я услышал, как трубку повесили на аппарат, и разговор прекратился».
В своих мемуарах Стремоухов с гордостью изложил диалог, состоявшийся между ним и Государем по илиодоровскому делу. Тут уж надо отдать должное силе воли Государя: он решительно заявил, что «простил» о. Илиодора, и отказался слушать доклад о новых его «безобразиях» – «все это мелочи». Да, он гораздо лучше гр. Татищева и Стремоухова вместе взятых понимал, как нелепы придирки Семигановского к проповедям царицынского инока. Получив отпор, Стремоухов, как и было задумано, попросился в отставку. Позже через Столыпина Государь передал ему, что «повелевает» продолжать службу в Саратове.