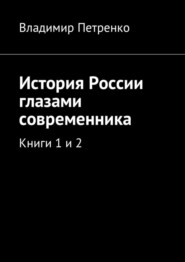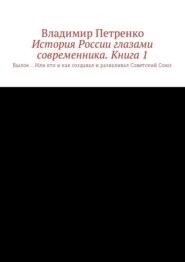По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История России глазами современника. Часть 2. Переписка с властью. От ЦК КПСС до Президента России В. В. Путина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На возражение автора, что он тоже работает в таком же режиме; и на его предложение встретиться в выходные дни. Б. П. Плышевский сказал, что он может позвонить руководству института, чтобы автора отпустили с работы.
Перспектива, что руководству института будут звонить со Старой площади из ЦК КПСС, автору пришлась не по душе. И он был вынужден отказаться от предложенной помощи.
Автор самостоятельно обратился к начальнику отдела с просьбой «отпустить его с работы на встречу в ЦК». А предъявленная «почтовая карточка», с реквизитами Старой площади, произвела на начальника отдела глубокое впечатление. И разрешение на поездку было получено.
Женская половина сектора проявила глубокую озабоченность и беспокойство. Их очень интересовал ответ на вопрос: «Отпустят ли Владимира Андреевича обратно»?
При этом, заверили, что в худшем случае будут носить «передачи». Страх такого рода в те годы имел место даже в среде весьма образованных людей.
Позвонив Б. П. Плышевскому о полученном разрешении и готовности встретиться, автор отправился на Старую площадь 45 номером троллейбуса.
В бюро пропусков офицер в звании капитана выписал пропуск. У ворот, при входе во двор 10-этажного кирпичного здания офицер охраны в звании майора, при проверке паспорта, обнаружил в нём три ошибки, но пропустил.
У дверей, при входе в здание, офицер охраны уже в звании подполковника, проверив документы: паспорт и пропуск, предложил пройти к лифту и подняться на восьмой этаж.
Поднявшись на восьмой этаж и пройдя по коридору к двери нужной комнаты, автор постучал в неё; и, получив разрешение, вошёл в комнату.
В довольно просторной комнате, размером, примерно, 5 на 6 метров или даже большей, за столом у стены, слева от двери, сидел товарищ, одетый по-летнему – в одной рубашке. На столе стояло пять телефонных аппаратов.
К столу, за которым сидел товарищ в рубашке, был приставлен стол в виде длинной ножки буквы «Т», по сторонам которого стояло по три стула с каждой стороны.
В дальнем правом углу у огромного, практически во всю стену, окна стояло кресло, перед которым на журнальном столике стояли ещё два телефонных аппарата, по-видимому, включенных параллельно, и лежали несколько газет и журналов.
За окном, в лучах солнца, блестели мокрые от только что брызнувшего дождичка крыши Политехнического института – слева, углового здания ЦК Комсомола – прямо и ряда других домов.
Подумав про себя, что хозяин кабинета «неплохо устроился», автор представился. Хозяин кабинета своего имени не назвал. И автор не знал – Плышевский ли сидел за столом. И, чтобы замять наступившую неловкость, автор позволил себе произнести: «Хорошо тут у Вас, а вид за окном – потрясающий»!
При этом подумал, что в их институтской комнате, примерно, такого же размера, за двенадцатью столами сидит 12 (двенадцать) человек: два ведущих инженера, два старших инженера, два инженера и шесть техников; и два параллельных телефонных аппарата.
Получив приглашение, автор присел, готовый к разговору. А хозяин кабинета, так и не представившись, ответив на телефонный звонок, предложил подождать:
– Должен прийти ещё один товарищ – сказал хозяин кабинета.
А, когда подошёл товарищ, кстати, тоже не представившийся, хозяин кабинета достал из ящика стола лист бумаги, на котором автор разглядел 13 рукописных вопросов, и началась «беседа».
Хозяин, украдкой читая, задавал вопрос, а автор отвечал. Когда на подготовленные вопросы были получены ответы, а интерес к беседе, по-видимому, не угас; собеседники автора начали формулировать новые вопросы, обнаружив при этом такое ужасное косноязычие, что осмелевший к тому времени автор был вынужден помогать своим собеседникам, формулировать их вопросы к себе.
В конце беседы хозяев интересовал только один вопрос: «Не будет ли автор настаивать на письменном ответе на своё обращение»?
– Не буду! – ответил автор.
Беседа затянулась до 19 часов, по окончании которой автор почувствовал, что очень хочется есть. И на вопрос: «Есть ли у Вас буфет? – На седьмом этаже – последовал ответ».
Спустившись на седьмой этаж, автор прошёл в буфет. Попросив у весьма привлекательной буфетчицы две бутылочки пива «Двойное золотое», очень редкого в Москве; четыре бутерброда: по одному с белой и красной рыбой на кусочке белой булки и с чёрной и красной икрой – на таком же кусочке белой булки; и, заплатив около двух с половиной рублей, автор был немало удивлён, подумав, сколько бы ему пришлось заплатить в буфете «Большого театра» или в ресторанах «Метрополь», «Москва» или «Националь»? Потому что в других местах ничего подобного не предлагали.
Пережёвывая бутерброды и запивая их редким пивом, автор настойчиво искал ответ на последний вопрос его недавних собеседников: «Не будет ли автор настаивать на письменном ответе»?
А, найдя, наконец, ответ, был немало удивлён. Ведь ответ был очень прост: содержание письменного ответа собеседникам необходимо было бы материализовывать.
А это, как раз, и не входило в интересы сотрудников этих прекрасных кабинетов.
А вспомнив их «косноязычие» при формулировании их дополнительных вопросов к себе, автор понял и ещё одну простую истину: «Почему на Руси жить не просто»?
Да, потому что директивы и законы, по которым жила страна, готовили эти «косноязычные» товарищи!!!
Президиум Верховного Совета СССР
Редакции газеты «Правда»
2 февраля 1943 года исполняется 40 лет – СОРОК лет – со дня победоносного завершения войсками Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) героической Сталинградской битвы.
Сталинградская битва, закончившаяся разгромом крупной группировки вражеских сил и пленением 300-тысячной армии, окончательно развеяла миф о непобедимости гитлеровских войск и явилась переломным моментом во Второй мировой войне.
Поражение, нанесённое гитлеровским войскам, было сокрушительным. В Германии был объявлен трёхдневный траур.
В ознаменование этой героической победы Красной Армии и в память о героически погибших советских воинах в Лондоне и Париже, многих других городах Европы и других частей света появились «Сталинградские» площади, проспекты и улицы.
«Три десятилетия назад, – пишет А. Василевский – слово „Сталинград“ вошло в словарный фонд всех языков мира и стой поры напоминает о битве, которая по размаху, напряжению и последствиям превзошла все вооруженные столкновения всех времён. – И далее. – Когда иностранные делегации или туристы посещают Советский Союз, в числе маршрутов их путешествий есть и тот, что ведёт к городу, расположенному на Нижней Волге, у её крутого изгиба».
А. Василевский, «Дело всей жизни», издание
второе дополненное, 1975 г., стр. 225.
Появилось новое «слово», есть площади, проспекты и улицы, названные именем героического города, под стенами, на площадях и улицах которого, разыгралось крупнейшее сражение, НЕТ только самого ГОРОДА. Почему?!!
«Хорошие отношения были у меня с Н. С. Хрущёвым и в первые послевоенные годы. Но они резко изменились после того, как я не поддержал его высказывания о том, что И. В. Сталин не разбирался в оперативно-стратегических вопросах и неквалифицированно руководил действиями войск как Верховный Главнокомандующий.
Я до сих пор не могу понять, как он мог это утверждать? Будучи членом Политбюро ЦК партии и членом Военного Совета ряда фронтов, Н. С. Хрущёв не мог не знать как высок был авторитет Ставки и Сталина в вопросах ведения боевых действий.
Он также не мог не знать, что командующие фронтами и армиями с большим уважением относились к Ставке и Сталину и ценили их за компетентность руководства вооружённой борьбой».
А. Василевский, «Дело всей жизни», стр. 269.
Большинство мемуаристов, лично знавших И. Сталина (Г. Жуков, С. Штеменко и ряд других) при всей критичности их высказываний, вообще, положительно оценивают личность и деятельность И. Сталина по управлению войсками в годы Великой Отечественной войны.
Будучи членом Политбюро ЦК партии, Н. С. Хрущёв, похоже, так и не нашёл в себе мужества при жизни И. В. Сталина открыто, как этого требует высокое звание коммуниста, заявить, если он искренно считал, что «Сталин не разбирается в оперативно-стратегических вопросах и неквалифицированно руководит действиями войск как Верховный Главнокомандующий».
Правомерно предположить, что у Н. С. Хрущёва не было серьёзных оснований для претензий к И. В. Сталину по кругу вопросов руководства войсками; или он не был наделён достаточным мужеством, чтобы заявить об этом открыто.
Его заявление о слабой компетентности И. В. Сталина и «неквалифицированном руководстве действиями войск как Верховного Главнокомандующего» уже после смерти И. В. Сталина было, вероятно, вымыслом и продиктовано личными мотивами и отношениями.
Анализ печати периода времени, когда Первым секретарём ЦК КПСС был Н. С. Хрущёв, даёт основание утверждать, что он был, если не инициатором, то очень активным сторонником кампании по переименованию Сталинграда в Волгоград.
Принимая во внимание значение Сталинградской битвы, самой ожесточённой в Великой Отечественной войне, по размаху, напряжённости и последствиям превзошедшей всё, что знала история. И отдавая дань глубокого уважения памяти воинов, защищавших Сталинград и павших на подступах к нему, у его стен, на площадях и улицах и оставшихся в живых, более 754 тысяч из которых награждены медалью «За оборону Сталинграда», учреждённой Президиумом Верховного Совета СССР.
Принимая, наконец, во внимание значение личности И. В. Сталина, его роль в истории российского рабочего и революционного движения, в организации и проведении вооружённого восстания по свержению самодержавия и власти временного, буржуазного по своей сути, правительства; его исключительную роль в образовании единого Союза ССР; оценивая его деятельность на посту Генерального секретаря ЦК ВКП (б) и Председателя Совнаркома СССР по организации уникальной по значению и масштабам эвакуации промышленных предприятий в восточные районы страны в начальный период Великой Отечественной войны; его роль как Верховного Главнокомандующего, которая подавляющим большинством мемуаристов, лично знавших И. В. Сталина, оценивается положительно; и даже учитывая при этом его личную роль в создании атмосферы «культа личности» вокруг своего имени и репрессиях этого периода; уместно, на мой взгляд, ПЕРЕСМОТРЕТЬ вопрос о переименовании Сталинграда в Волгоград.
Понятно, что переименование большого города даже с целью ВОЗВРАЩЕНИЯ ему более справедливого, но главное – очень важного ИСТОРИЧЕСКОГО имени связано с определёнными моральными и материальными издержками.