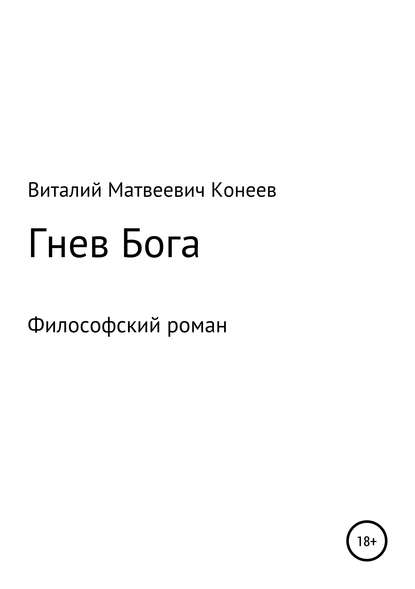По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гнев Бога
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Август сильным движением руки остановил Гортензия. Сел в кресло и посадил рядом с собой юношу. Сенатор отступил в глубину зала, к статуе Юпитера и, обняв ноги олимпийского бога, замер.
Наступила тишина. В эту минуту в душе Августа столкнулись холодная рассудочная идея умного, дальновидного политика с чувством любящего отца. Вот на одной стороне жизнь республики, а на другой …жизнь сына. Что победит?
Ах, если бы Юлия и Постум хитрили в своей любви к нему, то у него было бы хоть маленькое оправдание перед своей совестью отца! Но как раз эти двое были самыми искренними с ним в своём постоянном преклонении и любви к нему и в детстве и в юности. И он всегда помнил об этом, и мучился от того, что вынужден был сослать их на далёкие острова. «Разумеется, Тиберий не пощадил бы Постума, если объявить их соправителями…Мальчишка глуп, но тем он и дорог сердцу отца…»
Август прижался щекой к голове сына и задумчиво сказал:
– А если назначить в завещании Постума наследником?
– Да, Цезарь, – тихо откликнулся Гортензий, – если тебе дорог сын. Ведь ты знаешь Тиберия.
– Мне нужно подумать в спокойной обстановке.
Гортензий выскочил из-за статуи и протестующее махнул рукой.
– Нет! Не обманывай себя! Ты не бросишь сына в пасть зверя!
– Ты хочешь, чтобы я переписал завещание?
– Да. Прямо здесь, сейчас. А утром я сам зачитаю его в курии перед Правительством, потом перед народом и отдам в храм Весты.
Август опустил голову. Теперь, чувствуя рядом с собой живую плоть сына, он был готов на всё лишь бы дать ему долгую жизнь. Этот юноша с простодушным лицом был дороже Августу всей республики.
Принцепс сильно ударил себя кулаком в грудь
– Я отец, и я прав!
Гортензий торопливо принёс из угла стол, вынул из-под тоги пергамент, чернильницу, кисть. Разложил всё перед Августом и встал за его спиной.
Принцепс начал писать. Его суровое лицо выражало твёрдую непоколебимую волю.
За окном наступил рассвет.
Закончив составление документа, Август свернул пергамент и отдал его Гортензию.
– Сегодня, в восемь утра ты огласишь моё завещание перед Правительством…– он иронично покривил губами, -…ну, а Тиберий с его дурацкой манерой играть пальцами отправится в вечную ссылку на свой любимый остров Родос. – Он обнял сына и погладил его по голове. – Мальчика пока спрячь в садах Мецената. Я боюсь и Ливию.
Когда все покинули дворец, египтянка обернулась к дрожащему Вергилию . и он увидел на её лице загадочную улыбку.
– Я забыла сказать тебе: кто я.
– Кто же ты?
– Меня зовут Юлией –младшей.
– А кто твой отец?
– Мой отчим Тиберий Нерон Агенобарб, сын Цезаря.
– О!
– А мой дед Август Цезарь…И вот прекрасный случай для мести.
– Какой мести? И кому?
– Цезарю за мою мать Юлию – старшую, которую он сослал на остров.
– Но разве Тиберий сможет что-нибудь изменить?
– Не знаю, – ответила Юлия, рассеянно глядя вокруг себя.
Вергилий был поражён тем, что он узнал страшную тайну республики. Ему хотелось как можно быстрей убежать вон из этого дворца, из Рима в ту далёкую виллу, которую ему подарил Меценат. Юноша задыхался от страха и волнения.
Юлия восхищённо посмотрела на свои изящные, тонкие руки.
– Я хочу насладиться борьбой этих сильных людей. Их судьба в моих руках.
Она с презрением посмотрела на дрожащего Вергилия и почувствовала, как в её душе всё сжалось от того, что он уже тяготился своим присутствием рядом с нею и уже не помнил, кем они были друг для друга всю эту ночь. От мучительного сознания, что она брошена каким-то ничтожным поэтом, Юлия пришла в ярость и сжала кулачки, но , вспомнив его пылкость, трогательную нежность, неопытность и искренность чувств, она улыбнулась и потянула его руки к своему телу. Но Вергилий продолжал трястись от страха и безумно глядеть прямо перед собой.
Юлия разочарованно вздохнула. На её прекрасных глазах заблестели слёзы. Её голос дрогнул, когда она сказала:
– Мы, разумеется, встретимся, не правда ли?
Он ничего не ответил, погружённый в свой страх.
Они оделись и спустились вниз. Юлия, уже сидя в носилках и держа Вергилия за руку, торопливо оглядывала его лицо, ища в нём прошлое чувство. По её бледным щекам катились крупные капли слёз. Она медленно размазала их пальцами по лицу.
– Ну, поэт, беги писать свои стихи.
И Вергилий, облегчённо вздыхая, вмиг ощутил в душе лёгкость и помчался прочь по пустынной улице …навстречу всемирной славе, чтобы уже через год вернуться в Рим и увидеть на дальних подступах к городу десятки тысяч римлян, которые в экстазе обожания встречали юного поэта. И самые красивые женщины день и ночь будут ждать его выхода из дома, чтобы поцеловать на дороге следы его ног…Это будет…Так значит: слава трусости, потому что она есть вечная память в сердцах людей, чем смелость, потому что она смерть и забвение…
Юлия, потрясённая тем, что он покинул её так просто, не пожав ей руку, не сказав ни слова, не одарив прощальным взглядом, со стоном отчаяния упала на подушки и, прижимая ладони к груди, кожа которой ещё хранила память о его ласках, вскрикнула:
– Но почему так больно?!
Глава седьмая
Тиберий всю ночь просидел в кресле, полный разных предчувствий и размышлений. И когда в комнате появилась Юлия, он поднялся ей навстречу, огромный с широкими плечами борца, навис над хрупкой, изящной фигуркой девушки, внимательно оглядел её покрасневшее от слёз лицо.
– Кто тебя посмел обидеть?
Та капризно дёрнула плечиком.
– Никто. Я сама себя обидела.
И, ненавидя весь мир – ведь ей больно! – так пусть же больно будет всем! Она с удовольствием рассказала Тиберию всё, что узнала во дворце Гортензия Флакка.
Тиберий, прикрыв глаза рукой, молча слушал, потом, оставшись один, он, поигрывая пальцами, зычным голосом позвал камердинера. И едва заспанное лицо просунулось в комнату из-за двери, полководец спокойно сказал: