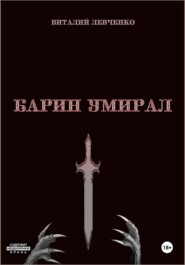По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
При подаче съедать полностью!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так называемое схождение с ума, если рассматривать его в русле колористики, имеет разные краски и оттенки. Белый – это цвет традиционного здравомыслия. Подобно призме, мозг демиурга разлагает спектр на отдельные цвета, реагируя в большей степени на какой-то один, настраиваясь на его волну. Степень резонанса определяется способностью его усиливать. Здесь мы вступаем в область таких понятий, как талант, творчество, одаренность. Истинное безумие, как вы догадываетесь, черное. Нет ни красного, ни синего, ни желтого. Физика – настоящая драматургия. Но вся эта, казалось бы, стройная система сразу рушится, если мы скользнем по карте вправо и вниз. В Китае белый цвет – цвет траура. На африканском континенте злых духов традиционно изображают белыми. А зебра там – черная.
– Все относительно, я понимаю, – кивнул Борис.
Собеседник покачал головой.
– Не в относительности дело, а в неспособности жить среди вещей и явлений нам не свойственных. Что непонятно – вызывает страх и желание бежать по тропинке в знакомые с детства места, где все ясно и привычно. Я закурю, с вашего позволения.
Он откинулся вбок, после короткой возни в кармане достал сигарету и, видимо, не желая разрушать мрак, сложил ладони с утопленной в них зажигалкой.
Нить рассуждений уходила куда-то в сторону, и Краснову никак не удавалось привязать ее к своей беде. Гость, вероятно, чувствовал растерянность узника, потому как прекратил говорить и курил, отведя в сторону проницательный взгляд.
– Вы должны осознать, почему здесь находитесь, если хотите вернуться домой, – вдруг произнес он.
– Это тоже метафора? – с отчаянием спросил Борис.
Вспыхнул свет. Краснов закрыл глаза, а когда открыл – сумрачного гостя уже не было.
Лампочка наверстывала упущенное, изливаясь в бешенном накале, и Краснов с испугом ощутил: еще секунда – и она взорвется. Но свет резко потускнел, стал желтоватым и тихим, как всегда.
Зашумела дверь, и тот же охранник, что заходил днем, принес ужин. Заменил на столе тарелки, смял и бросил на грязный поднос пластиковый стаканчик, поставив на его место такой же в точности и вышел, не сказав ни слова.
Борис напряженно размышлял: видение о госте выглядело слишком реалистичным для обычного сна. Ему подмешивают в чай наркотики? Бред!
Он сел на кровати – от частого лежания спина быстро затекала – и стал раскачиваться из стороны в сторону, вращать шеей и напрягать мышцы. Начал проделывать упражнения для глаз. Возле стула, на полу, расположилась большая распахнутая тень бабочки. Краснов застыл. Он не мог определить, откуда она появилась. Никаких бабочек нигде не было, лишь мелкая мошкара налипла на плафон. Нелепость происходящего обескураживала. Борис встал в центр камеры и принялся внимательно обследовать ее взглядом.
Он уже готов был поверить, когда внимание сместилось к столу, и разочарование, как глоток горячей жидкости, обожгло нутро. Один из листов, которые он рвал утром, смятым лежал на краешке стола. Краснов протянул к нему руку, и гигантский краб помчался по полу к бабочке, с шелестом впился в нее.
На ужин ему принесли вареный картофель в лиловых разводах и зелень. Вымученные стебельки петрушки не ощущались на вкус. Борис почувствовал дикую тоску. Он лег на кровать и накрыл голову одеялом.
По щеке что-то ползло, так осторожно, что становилось ясным: это шутка – насекомые двигаются по-другому. Он открыл глаза.
Элина держала белое перышко.
– Который час? – улыбнулся он.
– Суббота, скоро вечер, ты спишь вечность, а нас ждут Павлик и Яна. – Она положила перышко ему на нос и поднялась. – Я уже собираюсь. А ты иди под душ. Поторопись, иначе останешься дома.
– Утю-тю-тю! Какие мы важные! – рассмеялся Борис.
Павел занимался галерейным бизнесом, Яна была искусствоведом – они сами не могли сказать, где заканчивается их семейная жизнь и начинается работа. Их следовало принимать полностью или не воспринимать совсем. Поклонники Сальвадора Дали, они превратили свое жилье в подобие бесконечного сновидения с расписанными в духе никогда не просыпающегося испанца тремя измерениями. Их считали странными, даже для творческой среды. Внешнее сходство породило легенду о непреодолимой любви брата и сестры. Им нравились провокации, но Борис знал, что они играют на публику: были они такими же родственниками, как он и Элли.
Борис опустил чашку на пузатый белый столик, посмотрел на жену. Она забралась с ногами на софу в виде больших женских губ – великолепной копии одного из знаменитых творений Дали. Казалось, эти ярко-красные створки только и выжидают удобного момента, чтобы раскрыться и выпустить из глубины алый, чуть подрагивающий влажный язык, который слизнет Элину, как случайную соринку. Хотя для соринки она великовата, можно и поперхнуться.
Эта нелепая мысль рассмешила Бориса, и очень некстати, потому что Яна, перейдя на трагически шепот, рассказывала, как в студенческие годы играла в любительском театре. По сценарию ее героиню должны были застрелить, но когда настал момент падать, не рассчитав, она грохнулась в зал и сломала руку.
Он оказался под негодующим взглядом Элины. Яна сделала обиженное лицо, но не удержалась и тоже начала смеяться.
– Вот видишь, Янка, ты и Бориса развеселила своей трагедией, – ухал баском Павел.
– Знаешь, – продолжал он, махая жене рукой, чтобы не перебивала, – когда я об этом услышал в первый раз, тоже было смешно. Однако потом она рассказывала это при каждом удобном случае, а у женщин любой случай удобен, и я уже плакал, – закончил он под общий хохот.
Разговор перешел на живопись.
Павел любил поговорить о белых носорогах и фаллическом начале в творчестве мастера, о влиянии Фрейда. Забывая, что расстался с длинными волосами лет пятнадцать назад, пытался запустить руку в черный ежик, прикрывал глаза, покачивая на носке сердито топорщившийся серый тапок, и очень возмущался, когда Яна позволяла себе усомниться в его рассуждениях. За его спиной со стены стекал раскаленный Кадакес.
– Фрейд… Выходит, Дали постоянно размышлял о прикладной стороне любви? – спросила Элина.
– Вовсе нет, – опередила Яна мужа. – Скорее следует говорить о физиологических процессах на его полотнах. Сюрреализм… Фаллосы и все, что их символизирует, а также другие вещи существуют в дикой гармонии, сводящей с ума. Гармонизировать несовместимое – вот один из принципов Дали. Его иногда упрекают в эклектичности, но видят ее лишь в совокупности, казалось бы, несопоставимых вещей и явлений.
– Сон и явь, творчество и жизнь. Одно перетекает в другое, и нет никаких границ, – подытожил Павел.
Элина внимательно слушала, держа в руках игрушку: черно-красный Арлекин был из другого мира, и больше подходил ей, чем хозяевам этого дома.
Вернулись за полночь. Элина отправилась в ванную.
Несмотря на дневную дрему, Борису очень хотелось спать. Он принял душ и лег. Перед глазами прочно стоял навязчивый испанец и его картины. «Как можно жить в таком доме…» – промелькнула мысль.
Краснов открыл глаза. Спальню заливал лунный свет. Вероятно, спал он недолго, так как в мыслях тут же появился прошедший у друзей вечер. За спиной чуть слышно дышала Элина. Он повернулся к ней.
С лицом жены было что-то не так. Сперва ему показалось, будто Элина перед сном зачем-то нелепо накрасилась: густо-черные ресницы, броские тени на веках, яркая помада на губах; но Борис тут же вспомнил: Элина никогда не пользуется броской косметикой, а вчера перед сном полностью сняла легкий макияж.
«Лицо меняется у меня на глазах. Это каламбур» – пронеслось в мыслях. Он заметил, что воспринимает происходящее с циничной иронией. «Они снова решили напугать меня, – подумал Борис. – Черта с два! Это я заставляю других бояться. Это мое право. И со мной этот фокус не пройдет».
Однако он понимал: второй раз отмахнуться от увиденного и забыть – уже не получится. Тот далекий случай на презентации книги попытался спрятаться в уголке памяти, но Борис, после знакомства с Элиной, вышвырнул его вон. И теперь это возвращалось.
Аккуратно, словно в замедленной съемке, Краснов подвинулся на край кровати. Он никогда не замечал, как предательски громко может шуршать в тишине покрывало! Борис опустил ноги, поднялся и, стараясь не потерять равновесие, на цыпочках пошел к двери.
«Со стороны я выгляжу очень жутко!» – подумал он, двигаясь по толстому ковру. Приоткрытая дверь избавила от необходимости поворачивать ручку замка. На пороге Краснов обернулся: утонченная пластиковая рука куклы виднелась из-под покрывала, и лунный свет выбивал из кольца на ее пальце бриллиантовое сияние. Выглядело красиво, но на редкость фальшиво, словно неумелый режиссер собрал в одном эпизоде все штампы гламурной мелодрамы, и Борис почувствовал сильное раздражение. Он вышел в коридор и стал спускаться по лестнице, мысленно благодаря строителей этого дома: деревянные ступеньки за все годы так ни разу и не скрипнули.
В кабинете было темно, однако зажигать свет он не стал и на ощупь нашел в шкафу маленькую видеокамеру – подарок Яны и Павла на день рождения. Включил. Красный глазок бодро уставился на него, словно одобрял необходимость задуманного.
Борис стоял посреди кабинета и размышлял: он поступает с женой скверно и логичнее всего просто поговорить. Воображение тут же нарисовало картину, как он подходит к Элине, целует ее и произносит: «Все в порядке, милая. Просто я замечаю, что временами ты превращаешься в куклу – большую пластиковую игрушку. Круто! Как ты это делаешь?».
Он усмехнулся, сжал в ладони камеру и направился к лестнице.
Перед дверью Краснов остановился. От бредовости происходящего он почувствовал приступ истерического хохота. Прижал руку ко рту и так стоял, пока не прекратились нервные смешки.
«Просто сними это, чтобы поймать их с поличным» – сказал внутренний голос, и он кивнул, соглашаясь с ним. Поднял камеру и тихонько толкнул дверь.
В лунном свете лицо спящей Элины было бледным и невыразительным. На руке темнело колечко. Борис почувствовал себя проигравшим. Немного постояв, он выключил камеру и побрел в кабинет.
На утро пошел дождь. Краснов пытался работать, однако на ум ничего не шло. Вместо сюжета, взявшего в последнее время такой славный разгон, в голове крутились тревожные мысли. Он подошел к окну.
Борис со злорадством отметил, что происходящее с женой вызывает в нем вполне уловимое чувство эстетического характера, некое тревожное сладострастие. Тихое и осторожное подергивание струны, на которой держится здравый смысл.
«Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья» – вспомнилось ему. Прав поэт, сам похожий на большую экзотическую куклу, с лицом, стиснутым вскипающими бакенбардами!
Для чего он стал писателем? Деньги? Известность? Наверное… Однако стремление творить собственные миры было гораздо сильнее. Окружающую реальность, как аксиому, не нужно доказывать, а его амбиции требовали проделать с этой реальностью некоторые манипуляции, оставив, казалось бы, прежней; но на самом деле в результате невинного зеркального кульбита действительность приобретала иные свойства. И сейчас, глядя на свое отражение в окне, он вдруг ощутил, что грань между настоящим и придуманным начала стираться.