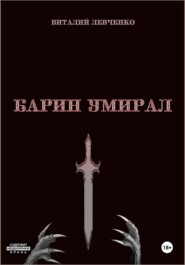По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
При подаче съедать полностью!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Возьми… Нужно было послушать тебя тогда и не плыть… я такая упрямая… Я люблю тебя…
Вот и все. Я берегу ту вещь, что отдала мне сестра. Как она сохранилась – для меня загадка. Но все годы Инга держала ее при себе. Это счастливый билетик с полустертой росписью сестренки – из того далекого дня, когда трамвай остановился на мосту, и мы, взволнованные отступлением от обычного распорядка, шагали к реке.
Прозрачное зеркало
Однажды из моего бытия ушло нечто живое…
Время – искусный монтажер, оно сделало еще иллюзорней и без того шаткую реальность прошлого. И теперь я пытаюсь восстановить в памяти прилежно переклеенную им ленту воспоминаний.
Я поступаю так, быть может, из эгоистических побуждений. Оправдываю выбор, сделанный мной когда-то. Но если я еще чувствую потребность в оправдании, значит, у меня остается надежда, что прошлое существует не только в моих мыслях.
Ирочка перестала быть в ту минуту, когда из гаража послышался гул ее спортивной машины. Я заканчивал очередную повесть. Отбивал в кабинете на машинке дневную норму – семь листов.
Обстоятельства ее смерти были до фальши литературны: рычащий «Ягуар», красный цвет которого всегда наводил меня на мысль о жертвах его живого тезки; Ирочка, идущая к дверям гаража; шнурок ботинка, змейкой охвативший ногу; дурацкая металлическая стойка, роль которой свелась к простому действию: будучи на траектории падения тела, послужить причиной смерти.
Спустя неделю Ирочка вернулась.
Шок, который я при этом испытал, полностью лишил меня в последствии надежды когда-нибудь вспомнить события того дня.
Короткое отсутствие жены не успело разрушить инерцию нашей жизни, и черно-белый отрезок длиной в семь дней был по молчаливому согласию признан нами несуществующим. Однако из осторожности мы покинули Москву и перебрались на юг. Мое книжное существование протекало под псевдонимом Апатин, поэтому чудесное воскрешение супруги гражданина Фальцетова прошло незамеченным общественностью.
Город, в который мы переехали на том же «Ягуаре», был небольшим: зеленое влажное пятно с высоты птичьего полета.
Я начал замечать в Ирочке перемены. В ее облике проскальзывало что-то американское: жесты, движения, мимика, улыбка, мысли – все наполнялось иным смыслом.
Вскоре изменились и ее привычки в еде: мясо и жирные продукты превратились исключительно в овощи и фрукты. В гардеробе запестрели спортивные костюмы. Вечерами она совершала пробежки и занималась шейпингом.
Однажды Ирочка вернулась с пробежки пьяной. Сидя на краю ванны, я слушал заплетающиеся в струйки пара объяснения: уже поднимаясь в лифте, она вдруг почувствовала сильное желание выпить. В кармане спортивной куртки лежали деньги, а двери маленького кафе напротив дома были еще открыты…
Через три дня она покончила с вегетарианской диетой и начала курить. Спорт забылся. Так прошел месяц.
Приступ американизации вернулся неожиданно. В этот раз он обладал фантастическими свойствами: она заговорила по-английски, хотя до смерти язык этот Ирочке не давался. На улицах ее принимали за иностранку. Она прочла в оригинале «Истинную жизнь Себастьяна Найта» Набокова и перешла к Мэри Шелли.
Это выглядело жутко. Но коньяк в качестве визави был еще хуже. И я надеялся, что антиприступ не наступит.
Но я ошибся.
Ее психика совершала мгновенную трансформацию. Однако после всего случившегося я и в мыслях не допускал показать жену специалистам.
Теперь она редко приходила домой трезвой. Я помню, как сидел возле приоткрытой двери на лестничную площадку, вслушиваясь в ночные шорохи. Наконец внизу раздавались знакомые звуки шагов. Бледная до альбинизма Ирочка, не взглянув на меня, опускалась в коридоре на пол. Я разувал ее, относил на диван, подкладывал под голову маленькую подушку и шел варить кофе.
Интуитивно я избегал любой попытки объясниться. Словно разговор на эту тему был для нас табу.
Ирочка снова проходила, как я его называл, западный период. Вернувшись однажды домой с пачкой бумаги для печатной машинки, я нашел в кухне записку по-английски, в которой она сообщала, что после спортзала заедет к парикмахеру.
Я вооружился бутылкой ледяного пива и открыл свежий номер журнала, где была статья обо мне. Начал читать – и вдруг ощутил себя мальчишкой, которому хихикающие девчонки указали на расстегнутые штаны. Я храню этот журнал до сих пор. Вот, что там написано:
«Все последние, послеперестроечные, произведения Апатина отличает крайняя степень фальши. Герои ведут себя так, словно их попросили поиграть в американцев. Характеры искусственны. Они аутентичны, быть может, литературе Нового Света, но никак не русской. Художественное пространство (Россия) находится в диссонансе с системой образов. Можно было бы допустить, что автор сознательно идет на это и фальшь на самом деле – только литературный прием для представления скрытых эстетических категорий, соответствующих традициям русской литературы; прием, обнажающий одно путем утверждения противоположного. Однако пишущий эти строки не нашел тому подтверждения, анализируя произведения Апатина, в частности, последний роман: токарь Клавдия Петровна, которая съедает на завтрак апельсин и тертую морковь, занимается шейпингом, и, улыбаясь направо и налево, втирается в переполненный автобус, чтобы не опоздать к началу смены, – это не только не серьезно, но даже не смешно. Это грубая эклектика, и автор использует ее бездарно».
В висках пульсировал ужас прозрения. Неважно, что писал критик. Но все сказанное им каким-то образом относилось к моей жене. Я подумал: неужели между странным поведением Ирочки и моими литературными фантазиями есть взаимосвязь? Но если бы я писал по-другому, как раньше, что тогда?
Поддавшись этой идее, я решил набросать короткую повесть в прежнем стиле, с традиционными персонажами, на материале разрушенной недавно эпохи.
В течение следующей недели я пытался сделать это. Но ничего не выходило. Вернее, получалось на редкость отвратительно и бездарно. Я физически ощущал сопротивление слов. Они рассыпались, не успев попасть на бумагу. Под скулами запрыгали шарики лимфоузлов. Пальцы дрожали. На шестой день я покинул рабочее место с сильнейшей ангиной. Возможно, виной тому было ледяное пиво. К счастью, Ирочкин приступ американизации продолжался, и она заботливо провозилась со мной весь период болезни.
Наступало лето. В субботу Ирочка убедила меня сходить в парк. Позавтракав каждый на свой манер, мы покинули квартиру.
Парком называлась оставшаяся в первозданном виде густая чаща в центре города, где я еще ни разу не был. По дороге я порывался взять Ирочку под руку, но она смеялась и убегала вперед. До парка она успела съесть мороженое и выпить стакан газировки. Она одобряла американскую привычку вечно что-нибудь жевать на ходу. Говорила: это здорово экономит время.
Дойдя до места, мы сосредоточились на поиске свободной скамейки. Густая листва вокруг создавала музейную прохладу и тишину.
Мы увидели пустую лавочку и поспешили занять ее. Ирочка достала из сумки бутерброды и бутылку лимонада. Он оказался отвратительно теплым, но жена не позволяла мне после ангины пить холодное. Я сделал несколько глотков и принялся рассматривать чащу. Сплетающиеся прутья незнакомых мне кустарников поднимались к ветвям приземистых кленов и вязов, прочно ограждая внутреннюю terra incognita от праздных гуляк, оставив им в виде уступки только узкие дорожки.
Я посмотрел на Ирочку: вот она, живая и настоящая, гладит подбежавшего к скамейке пуделя.
Возле нас материализовался малыш, в очках с толстыми линзами. Он направил на меня мигающий цветными огнями космический пистолет.
– Я знаю, кто ты. Руки вверх!
Я поднял руки. Ирочка засмеялась и тоже сдалась в плен, но ребенок, как это свойственно детям, быстро потерял интерес к игре и побежал за пуделем.
Откуда-то донеслась шумная возня. Послышался женский плач. Мы обежали кустарники и оказались на соседней аллее. У скамейки лежал пожилой мужчина. Его супруга умоляла зевак вызвать «Скорую». Кто-то бросился к телефонной будке.
В одной из моих повестей был точно такой же случай.
Быть может, повлияло увиденное, или пришло время, но у Ирочки на следующий день начался кризис. Вечер она провела с бутылкой коньяка в кресле перед окном. Потом отключилась, и я отнес ее в спальню. Поставил вариться кофе и вышел на балкон.
Висела низкая и яркая луна. Блестела металлическая крыша соседнего дома. Вдоль решетчатого бортика по ее краю двигалась девушка, одетая в короткие шортики и майку. Дойдя до раскидистой антенны, она взялась за прут, перелезла через бортик и прыгнула. Я закрыл глаза. Внизу глухо стукнуло.
Кофе еще не успел завариться, а за окном уже появились синие вспышки. Я сидел в кухне и представлял, как следователь выясняет личность самоубийцы: он обнаружит, что Наташа приехала из Новосибирска и покончила с собой из-за несостоявшегося романа с местным жиголо. Когда-то я придумал эту историю и описал ее в одном из старых рассказов.
Я отчетливо помню еще с десяток смертей, которые случились вокруг меня в тот год. Смерти из моих книг.
Однажды я не выдержал. Толстую пачку денег – материальное свидетельство моего литературного существования – я оставил на синем бархате дивана. Ирочке хватило бы их надолго.
Мне восемьдесят пять, и за моим окном лежит спокойное Северное море. Местный климат обладает свойством с цинизмом хирурга выуживать из памяти маленькие осколки былого: скамейка и симпатичный пудель, пустое кресло на фоне темного окна, половинка стола с нетронутой тарелкой овощей, распахнутая дверь, за которой чернота лестничного провала…
Кукла
Каждое утро, едва за крохотным окошком начинало светать, Борис подставлял к стене пластмассовый стул, залезал на него и, просунув пальцы сквозь тонкие крепкие прутья решетки, подолгу смотрел, как заполняется небо желтовато-красной зарей.
Наружная стена была толстой, а решетка – лишней: сквозь отверстие протиснулся бы только младенец.
В период обследования он был парализован видениями своей плоти в тюрьме, но прозвучало слово «шизофрения», и навалилось тяжелое бездумное оцепенение, из которого он потом долго выкарабкивался, словно аквалангист, поднимающийся сквозь бесконечную толщу воды. После вынесения приговора страх иногда возвращался: вдруг они передумают, признают его нормальным и отправят на зону, в ад? Он успокаивал себя: тот, кто убил собственную жену, потому что посчитал ее детской игрушкой – куклой, обречен носить звание психа. Он сам десятки раз описывал в своих книгах ложное сочувствие, с которым доктора относятся к душевнобольным, а теперь испытал его на себе.
До того, как им занялись врачи, его мучили единственным вопросом: где тело? И когда он говорил, что Элина убежала, следователь, еще молодой и по-настоящему любопытный, становился грустным, отводил взгляд, словно смущался сидящего напротив знаменитого писателя, Бориса Краснова, и убеждал говорить правду. Напоминал, что спальня была похожа на бойню.
Борис вскакивал с упругой, тоже пластиковой, как стул, кровати, ломал тонкий очищенный столбик грифеля, срывал со стола и рвал узкие мышиного цвета листки бумаги – единственное разрушение, которое он мог сотворить. Черт возьми, это была не кровь! Когда он в первый раз ударил Элину, лезвие прошлось по руке. Она ничего не почувствовала: спокойно вытащила из разреза тугой клочок белой набивки, и в воздухе запахло синтетикой.