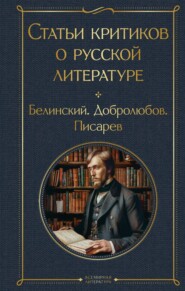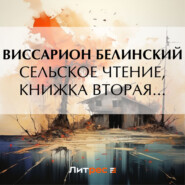По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма (1841–1848)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
318. П. В. Анненкову
<20 ноября – 2 декабря 1847 г. Петербург.>
Дражайший мой Павел Васильевич, виноват я перед Вами, как чорт знает кто, так виноват, что и оправдываться нет духу, даже на письме, хотя в вине моей перед Вами и есть circonstances att?nuantes.[344 - смягчающие обстоятельства (франц.). – Ред.] И потому, не теряя лишних слов, предаю себя Вашему великодушию, которое в Вас сильнее справедливого негодования.
Не можете представить, как, с одной стороны, обрадовало меня письмо Ваше, а с другой – каким жгучим упреком кольнуло оно мою трикраты виновную перед Вами совесть.[1163 - Это письмо Анненкова не сохранилось. Настоящее письмо Белинского разошлось с письмом к нему Тургенева из Парижа от 14/26 ноября 1847 г. с припиской Анненкова (Письма, т. III, стр. 384–386).] Но довольно об этом. Пущусь в повествовательный слог и расскажу Вам о себе и прочем всё в хронологическом порядке. Гибельная привычка быть подробным и обстоятельным в письмах главная причина моей несостоятельности в переписке. Отправивши к Вам письмо из Берлина, в котором я расхвастался моим здоровьем,[1164 - Письмо 315.] я через несколько же часов почувствовал, что мне хуже, что я, значит, простудился. Такова моя участь. Из Парижа только что расхвастался жене чуть не совершенным выздоровлением, как на другой же день и простудился и стал никуда не годен. В Берлине погода стояла гнусная. Мы с Щ<епкиным>[1165 - См. примеч. 3 к письму 315.] выходили только обедать, да еще по утрам он ходил к своему египтологу, Лепсиусу,[1166 - Лепсиус Карл Рихард (1810–1884), знаменитый немецкий египтолог.] а я всё сидел дома. Кстати о Щ<епкине>. Он самолюбив до гадости, до омерзения; это правда; но он всё-таки не чужд многих весьма хороших качеств, и малый с головой. Может быть, я так говорю потому, что дружеское расположение, с каким обошелся со мною Щ<епкин>, затронуло, подкупило мое самолюбие. Да, я, в этом отношении, в сорочке родился: многие люди различно, а иногда и противоположно, враждебно даже, относящиеся друг к другу, ко мне относятся почти одинаково. Может быть, тут не одно счастие, а есть немножко и заслуги с моей стороны; а эта заслуга, по моему мнению, заключается в моей открытости и прямоте. Например, Тург<енев> был оскорблен обращением с ним Щ<епки>на и этим и ограничился. Я же, напротив, не оскорблялся, а чуть замечал, что он заносится, показывал ясно, что это вижу, и не уступал ему, как это одни делают по робости характера, другие по гордости, третьи по уклончивости. Впрочем, у Щ<епкина> есть в манере нечто странное и пошлое, независимо от его самолюбивого характера, а это мало знающие его приписывают его самолюбию. Но вот я и заболтался, вдался в диссертацию и уж сам не знаю, как выйти из нее приличным образом. Прожив с Щ<епкиным> с неделю в одной комнате, я уразумел предмет его занятий и восчувствовал к нему уважение. Для него искусство важно, как пособие, как источник для археологии. Он выучился по-коптски, читает бойко гиероглифы, и Египет составляет главный предмет его изучения. Археологию я высоко уважаю и слушать знающего по ее части человека готов целые дни. И Щ<епкин> сообщил мне много интересного касательно Египта. Его профессор Лепсиус так обшарил весь Египет, что теперь после него нет никакой возможности поживиться надписью или гиероглифом, хоть останься для этого жить в Египте. Большая комната у Лепсиуса кругом обставлена шкапами, наполненными только материалами для истории Египта. Он восстановил (по источникам) хронологию Египта за 5000 лет до нашего времени, следовательно, с лишком за 3000 лет до Р. X. И в этом отношении Лепс<иус> сделался уже авторитетом, на него все ссылаются, все его цитируют. Теперь он обработывает грамматику коптского языка, после чего приступит к другим важным работам по части истории Египта. Поразил меня особенно факт, что египтяне называли евреев прокаженными. Вот и дивись после этого, что иной индивидуум грязен и вонюч не по бедности и нужде, а по бескорыстной любви к грязи и вони (как Погодин), – когда целый народ, с самого своего появления на сцену истории до сих пор, подобно Петрушке, носит с собою свой особенный запах!
В пятницу я уехал в Штеттин, а на другой день, ровно в час, тронулся наш Адлер. Лишь только начали мы выбираться из Свинемюнде, как началась качка. Я пообедал в субботу, часа в два, а потом позавтракал во вторник, часов в 10 утра. В промежутке я лежал в моей койке то в дремоте, то в рвоте. Во вторник я обедал и оправился. Были слабее меня, например Полуденский (брат мужа сестры Сазонова),[1167 - См. примеч. 14 к письму 315.] который лежал в агонии вплоть до Кронштадта. В Кронштадт прибыли мы в в середу, часов в 6. Началась переписка и отметка паспортов – церемония длинная и варварски скучная. Между тем, переложились на малый пароход. Да, и забыл было сказать, что при виде Кронштадта нам представилось странное зрелище: всё покрыто снегом, и накануне (нам сказали) в Петербурге была санная езда. Страдая морскою болезнию, я поправился в моей хронической болезни и прибыл здоровехонек. Тут я вполне убедился, что ездить по ночам по железным дорогам, словом, спать тепло одетому на открытом воздухе, – для меня своего рода лечение, едва ли не более действительное всех других родов лечений. Недаром я так не люблю спать в трактирах. Если не в моей комнате, в которой я привык спать, то всего лучше на вольном воздухе, одетому. Если судьба опять накажет меня путешествием, я буду ездить по ночам, а останавливаться на отдыхи днем. Оно и здорово и полезно: можно и пообедать, не торопясь, и город осмотреть, и кости расправить ходьбою.
Но вот и Питер. Что-то у меня дома? Так и полетел бы, а изволь идти в таможню. Часа 4 прошло в муке ожидания и хлопот, но дело сошло с рук лучше, нежели где-нибудь. Да, я забыл было: в понедельник была на море буря и пароход несколько часов был в опасности. К счастию, я ничего не знал.
Дома я нашел всё и всех в положении довольно порядочном. Тильман назвал Тира шарлатаном, лекарства его велел оставить. Это меня страшно огорчило. Плакали мои 68 франков! Через несколько дней, после обеда, сделалось мне худо: я хрипел, задыхался, словом, это был вечер хуже самых худых дней прошлой зимы, когда я беспрестанно умирал. Жена пристала, чтоб я начал принимать лекарство Тира. Что делать? Не принимать – пожалуй, издохнешь, пока дождешься приезда Тильмана; принимать – как сказать об этом Тильману? Эти доктора хуже женщин по части самолюбия и ревности. Однако дело обошлось хорошо. Мне было лучше, и Тильман не только не рассердился, но еще и велел продолжать микстуру Тирашки. Он, видите ли, достал рецепт этой микстуры. Надо Вам сказать, что Тильман лечит m-me Языкову.[1168 - См. письмо 306 и примеч. 5 к нему.] Он говорит, что средства Тира все самые известные и обыкновенные, что ими и он, Тильман, часто лечит и что, зная теперь состав Тирашкиных снадобий, он может позволить их употребление. Кстати: Языкова несколько раз была в опасности, харкала кровью. Теперь ей лучше. Дочь ее замужем и в Москве. Сама она, кажется, и не думает сбираться за границу. Я всё сбираюсь побывать у ней, да всё не соберусь: то заболею, то работа. Через неделю по приезде был я у Ваших братьев.[1169 - Братья Анненкова – Иван Васильевич (1812–1887), флигель-адъютант, впоследствии генерал-адъютант, автор «Истории лейб-гвардии конного полка от 1731 до 1848 г.» (1849), инициатор издания сочинений Пушкина, осуществленного П. В. Анненковым, и Федор Васильевич (1805–1869), впоследствии нижегородский губернатор.] Что это за добрые души! Они обрадовались мне, словно родному, как говорится. Что у них теперь за квартира! В нижнем этаже окна на бульвар, и как их комнаты выступают из улицы углом, то из их окон видны Адмиралтейство и Зимний дворец. Вид несравненный!
Жена моя жила на квартире временной; надо было искать новую. С ног сбился, а не нашел. Из нескольких гадких порешились взять менее других гадкую. Она до того мала, что половина мебели нашей не вошла бы в нее и я задохнулся бы в ней. Я сбирался перейти в нее, как сбирается человек, осужденный за долги на тюремное заключение, переезжать на эту квартиру. К счастию, случайно нашли квартиру большую, красивую и дешевую. Кроме кухни и передней – шесть комнат, большие стекла, полы парке, обои, цена 1320 р. асс. Переезд был хлопотен; мы перевозились из трех мест: с старой квартиры, а большая часть мебели была у Языкова, книги – у Тютчева. При переезде я простудился, и у меня открылись раны на легких (о чем я узнал после). Тильман говорил жене, что такого больного у него не бывало, что он уже не один раз назначал день моей смерти – и я его неожиданно обманывал. Это хорошо, но это только одна сторона медали, а вот и другая: не раз считал он меня вне всякой опасности и назначал время совершенного моего выздоровления – и я опять каждый раз его обманывал. Самарин тиснул в «Москвитянине» статью (весьма пошлую и подлую) о «Современнике»[1170 - Статья «О мнениях «Современника» исторических и литературных» («Москвитянин» 1847, ч. II, стр. 133–222, за подписью: МЗК).] мне надо было ответить ему.[1171 - См. письмо 316 и примеч. 2 к нему.] Взялся было за работу – не могу – лихорадочный жар, изнеможение. Как я испугался! Стало быть, я не могу работать! Стало быть, мне надо искать места в больнице; а жене в богадельне! Но дня через два, через три лихорадка прошла совершенно, Тильман велел мне оставить все лекарства; я принялся за работу, и в шесть дней намахал три с половиною печатных листа. И всё это с отдыхами, с ленью, с потерею времени: иногда принимался не раньше 12 часов, а после обеда работал только три дня, и то от 7 до 9 часов, не более. И во всё это время я чувствовал себя не только здоровее и крепче, но бодрее и веселее обыкновенного. Это меня сильно поощрило. Значит – я могу работать, стало быть, могу жить. Вообще, чтоб уже больше не возвращаться к этому предмету, скажу Вам, что как ни хил и ни плох я, а всё гораздо лучше, нежели как был до поездки за границу – просто, сравненья нет!
В литературе нашел я много нового. «Отечественные записки»[345 - Далее зачеркнуто: сколько] гнусны по части изящной словесности, но во всем остальном – журнал хоть куда! Разумеется, тут не ум и таланты Кр<аевско>го виноваты, а его счастие в качестве подлеца. Нужно же было Заблоцкому именно в нынешнем году написать превосходнейшую статью (которую я выпросил у автора и для себя и для Вас, а контора взялась переслать Вам). Прочел я в «Отечественных записках» превосходную критику сочинений Фонвизина, таковую же на книжку: «О религиозных сектах евреев», и несколько прекрасных рецензий. Автор их – некто г. Дудышкин. Он никогда не писал и не думал писать; но покойник Майков убедил его взяться за перо.[1172 - См. примеч. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 24 к письму 316.] Ну, не счастие ли подлецам? Ведь он мог начать и у нас, а что он начал в «Отечественных записках» – это дело чистого случая. Теперь Дудышкин – наш,[1173 - Белинский ошибся в своих надеждах на Дудышкина, последний остался постоянным сотрудником «Отеч. записок».] а всё-таки «Отечественным запискам» он помог, и этого не воротишь. Какой-то шут прислал в «Отечественные записки» превосходную статью, или, лучше сказать, ряд превосходнейших статей о золотых приисках в Сибири. Опять счастие! Боясь, что «Современник» подрежет его при новой подписке, Кр<аевский> велел Галахову валяться в ногах у москвичей, чтобы выпросить у них названий будто бы обещанных в «Отечественные записки» статей; и те – дали! Что ж тут удивительного: подлецы всегда выезжают на дураках! В. П. Б<отки>н обещал историю Испании за три последние столетия; Грановский – биографию Помбаля, Кавелин разные вещи по части русской истории. Это решительная гибель для «Современника». Они оправдываются тем, что желают нам всяких успехов, но жалеют и Кр<аевско>го!! Я написал к Б<отки>ну длинное письмо. Он сложил вину на Некрасова – зачем-де он их не предупредил. Грановский отвечал прямо, что, так как «Отечественные записки» издаются в одном духе с «Современником», то он очень рад, что у нас, вместо одного, два хороших журнала, и готов помогать обоим.[1174 - Эти ответы «москвичей» не сохранились. См. о них также письмо 319.] Подите, растолкуйте такому шуту, что именно по одинаковости направления оба журнала и не могут с успехом существовать вместе, но должны только мешать и вредить друг другу. А между тем, отложение от «Отечественных записок» главных их сотрудников «Современник» выставил в своей программе, как право на свое существование. Кр<аевский> же уверяет печатно, что сотрудники его всё те же, и наши московские друзья-враги теперь торжественно оправдали Кр<аевско>го и выставили лжецом «Современника». Мы крепко боимся, чтобы за это не сесть на мель при новой подписке. Одинаковое направление! Эти господа не хотят понять, что направлением своим теперь «Отечественные записки» обязаны только случаю да счастию, а не личности их редактора. Кстати, об этой прекрасной личности. Вы знаете, что Кр<аевский> прошлое лето ездил в Москву и останавливался у Б<отки>на. Как conditio sine qua non[346 - непременное условие (латин.). – Ред.] своего драгоценного пребывания у Б<откина>, он сказал ему, что не хочет встречаться с Кетчером. Вместо того, чтобы сказать ему, что это очень легко, стоит-де Вам взять шляпу да уйти, когда придет Кетчер, ему ничего не сказали, и подлец имел полное право заключить, что честный и благородный человек ему принесен в жертву. По совету Н. Ф. Павлова, Кр<аевский> купил за 4 р. 70 к. меди примочку для ращения волос. В день отъезда он входит в комнату Б<отки>на с пузырьком в руке и горько жалуется, что П<авлов> заставил его потерять деньги на дрянь. Всякий другой сказал бы ему, выкиньте-де за окно, если это дрянь; но В<асилий> П<етрович> почел долгом быть благоговейно и преданно деликатным в отношении к Кр<аевско>му. – Отдайте мне; что Вы заплатили? – Пять рублей. – (Видите ли, подлец украл у Б<отки>на 30 к. медью). На этом дело не кончилось. В минуту отъезда Кр<асвский> пришел к Б<откину> с пустым пузырьком и попросил его отлить ему на дорогу примочки. – Приглашает Кр<аевский> москвичей обедать к Шевалье. В назначенное для сбора время приглашенные колеблются, боясь, что придется расплачиваться каждому за себя; но Б<откин>, великодушно посвятивший себя в козлы-грехоносцы Кр<аевско>го, клянется и божится, что Кр<аевский> заплатит за всех. И он, действительно, заплатил, даже велел подать 2 или 3 бутылки лафиту – и больше ничего по части вин. Видя, что в одной бутылке осталось до половины вина, Кр<аевский> тщательно заткнул ее пробкою и положил в карман. На другой день назначен был пикник, на который каждый должен был явиться с каким-нибудь съестным или питейным запасом, – и Кр<аевский> явился с недопитою накануне бутылкою лафита! Не подумайте, чтобы я тут что-нибудь переиначивал или преувеличивал: нет, я историк тем более точный и правдивый, чем более желаю выставить Кр<аевского> в настоящем его виде. Малейшая ложь могла бы оправдать его в главном, а этого-то я и не хочу. Это его московские подвиги; а вот и петербургские. Нанял он себе великолепный отель на Невском, над рестораном Доминика, за 4000 р. асс. Раз были у него Дудышкин, Милютин и еще кто-то третий, все люди, которыми он дорожил для «Отечественных записок». Нужно ему было с ними переговорить, а время было обеденное, – и он пригласил их к Доминику, так как в этот день у него не готовили стол. Ну, те рады – думали пообедают на славу. Но Кр<аевский> велел подать 4 обеда трехрублевые – и ни капли вина: он насчет вина придерживается Магометова закона и разрешает только на чужое вино. Собеседники его велели подать вина; но Кр<аевский> не шевельнул и бровью, заплатил за 4 обеда, а за вино великодушно предоставил расплачиваться своим гостям. – Выкупил он из мещанского общества (и тем спас от рекрутства) Буткова, но выкупил на деньги Общества посещения бедных, и за такое благодеяние запряг Буткова в свою работу. Тот уже не раз приходил со слезами жаловаться Некрасову на своего вампира. Раз Бутков просит у Некр<асова> № «Отечественных записок». Но прежде Вам надо сказать, что Б<утков> живет у Кр<аевско>го вместе с другим молодым человеком – Крешевым. Он дал им лишнюю комнату, взявши с каждого из них по 100 р. сер. в год. Некр<асов> заметил Буткову, что ему лучше брать «Отечественные записки» у Кр<аевского>, с которым он живет в одном доме. – Просил не раз, да не дает: говорит – подпишитесь. – Продал Кр<аевский> Крешеву старый диван, набитый клопами, за 4 р. сер. Диван этот понравился Достоевскому, и он, за ту же цену, перекупил его у Крешева. Поутру являются двое ломовых извозчика от Достоевского, и они понесли было диван. Но Кр<аевский>, узнав об этом, велел остановить: я, говорит, дал им (продать за деньги – по его мнению, значит дать), чтобы комната не была пуста и было бы на что сесть. За отопление и метение этой комнаты люди Кр<аевско>го получают от Буткова 5 р. с. в месяц, но не топят и не метут, а только грубиянят Буткову, благо он тих и робок. – Раз Кр<аевский> говорит человеку: позвать ко мне Крешева. Пришел К<решев>, и Кр<аевский> надавал ему комиссий, по которым он должен был побывать в разных частях города. – Только ие торопитесь – время терпит. – Выполнив комиссии и отдав в них отчет, Крешев просит целкового заплатить извозчику. – Как извозчику? – Да ведь я ездил. – А почему же Вы не сходили пешком? Ведь я же Вам сказал, что время терпит и торопиться не к чему. – Сконфуженный такою наглостию, Крешев просит целкового в счет следующей ему платы. – Ну, коли на Ваш счет – извольте; только, что у Вас за охота мотать деньги. – Каков? – Раз приходит к нему Дудыгакин. – Что говорят в городе об «Отечественных записках»? – спрашивает Кр<аевский>. – Да говорят, что единство направления в них исчезает. – А, да! это надо поправить; я открою у себя вечера по четвергам для моих сотрудников. – Здесь, Вы видите, будто он хочет давать направление (которого у него-то самого никогда и не бывало) своим сотрудникам; но умысел другой тут был:[1175 - Цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты».] ему нужно набираться чужого ума, за отсутствием своего собственного. Действительно, что ни напечатает, обо всем настоятельно требует мнения Дудышкина, и потом выдает это мнение за свое собственное. Вечера он открыл, да только к нему никто на них не ходит, ибо все его не терпят и презирают. А он было решился уже поить своих гостей выпаренным на самоваре чаем, от которого пахнет человеческим потом.
И вот кого поддерживают наши московские друзья во вред «Современнику»! Хороши гуси, нечего сказать!
Достоевский славно подкузмил Кр<аевско>го: напечатал у него первую половину повести; а второй половины не написал, да и никогда не напишет. Дело в том, что его повесть до того пошла, глупа и бездарна, что на основании ее начала ничего нельзя (как ни бейся) развить. Герой – какой-то нервический <…> – как ни взглянет на него героиня, так и хлопнется он в обморок.[1176 - Повесть «Хозяйка». См. письмо 316 и примеч. 41 к нему.] Право!
Ваше последнее письмо – прелесть во всех отношениях, и даже со стороны слога и языка безукоризненно. А что, дражайший мой автор «Кирюши», что бы Вам тряхнуть еще повестцой?[1177 - В майском номере «Современника» 1847 г. была напечатана повесть П. В. Анненкова «Кирюша» (отд. I, стр. 57–84) за подписью: ***.В отмеченной выше приписке к письму Тургенева (см. наст. письмо, примеч. 1) Анненков сообщал: «…я тоже от одурения скуки стал писать повесть и совершенно не знаю, просто ли она дурна или отвратительно дурна. Вы мне это скажете, когда я перешлю ее» (Письма, т. III, стр. 386). – В №№ 7 и 8 «Современника» 1848 г. появились две повести Анненкова – «Художник» (отд. I, стр. 5–20), за подписью:*** и «Она погибнет!» (стр. 105–142), за подписью: П. А-в.] Написали одну (и весьма порядочную), стало быть, можете написать и другую, и еще лучше. Говорят, Вы скучаете. Это мне странно. Вот бы от скуки-то и приняться за дело.
Я очень рад, что мальчишка наш нашелся. Подлинно, чему не пропасть, то всегда найдется. Кланяюсь ему, но писать теперь некогда, а на письмо его отвечу через некоторое время.[1178 - Речь идет об И. С. Тургеневе. Письмо его к Белинскому не сохранилось.] Некр<асов> выполнил все его поручения. Смотрите за ним.
Слегка за шалости браните
И в Тюльери гулять водите.[1179 - Перефразировка строк из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 1 строфа III).]
Григорович написал удивительную повесть.[1180 - Повесть «Антон Горемыка». См. письма 316, примеч. 42, и 319.] В той же книжке увидите Вы мою статью против Самарина, страшно изуродованную цензурою.[1181 - См. примеч. 43 к письму 316.]
Мои все Вам кланяются. Я скоро (право, не вру) опять буду писать к Вам.
Ваш В. Б.
Кланяйтесь Герценам и М<арье> Ф<едоровне> и всем нашим. А что же статья об «Эстетике» Гегеля?[1182 - См. примеч. 14 к письму 315.]
СПб. 1847. 20 ноября – 2 декабря.
319. К. Д. Кавелину
<22 ноября 1847 г. Петербург>
Сейчас только получил и разобрал (с большим трудом) Ваше, писанное небывалыми до Вас на свете гиероглифами, письмо, милый мой Кавелин, – и сейчас отвечаю на него.[1183 - Письма К. Д. Кавелина к Белинскому не сохранились.] Что Вы летом ничего не делали для «Современника», за это никто из нас и не думал сердиться на Вас. Вы наш сотрудник, соучастник, а не работник, не поденщик, обязанный не иметь ни лени, ни отдыха, ни других дел, более для Вас важных. И Вы напрасно извиняетесь, потому что никто Вас и не обвинял. Вот, что Вы губите нас, помогая сквернавцу Кр<аевско>му, – это нам больно; но об этом после. Отзыв Ваш о моей статье[1184 - См. примеч. 2 к письму 316.] тронул меня глубоко, хотя в то же время и посмешил своею преувеличенностию. Статья моя, действительно, не дурна, особенно в том виде, как написана (а не как напечатана), но и далеко не так хороша, как Вы ее находите. Не называю Вас за это ни мальчишкою (изо всех моих друзей и приятелей, этим именем я называю только Тургенева), ни рыцарем. Дело просто: Вы меня любите, а между тем сочли за человека, который заживо умер и от которого больше нечего было ожидать. И такое мнение с Вашей стороны не было ни несправедливо, ни опрометчиво: оно основывалось на фактах моей прошлогодней деятельности для «Современника». Дело прошлое: а я и сам ехал за границу с тяжелым и грустным убеждением, что поприще мое кончилось, что я сделал всё, что дано было мне сделать, что я измочалился, выписался, выболтался и стал похож на выжатый и вымоченный в чаю лимон. Каково мне было так думать, можете посудить сами: тут дело шло не об одном самолюбии, но и о голодной смерти с семейством. И надежда возвратилась мне с этою статьею. Неудивительно, что она всем Вам показалась лучше, чем есть, особенно Вам, по молодости и темпераменту более других наклонному к увлечению. Спасибо Вам. Ваше сравнение моей статьи с Пушкина и Лермонтова последними сочинениями и еще с последними распоряжениями кого-то, чье имя я не разобрал в Ваших гиероглифах, – это сравнение дышит увлечением и вызывает улыбку на уста. Так! но есть преувеличения, лжи и ошибки, которые иногда дороже нам верных и строгих определений разума: это те, которые исходят из любви; видишь их несостоятельность, а чувствуешь себя человечески тепло и хорошо. Еще раз спасибо Вам, милый мой Кавелин. Кстати о статье. Я уже писал к Б<отки>ну, что она искажена цензурою варварски и – что всего обиднее – совершенно произвольно.[1185 - См. письмо 316, стр. 422.] Вот Вам два примера. Я говорю о себе, что, опираясь на инстинкт истины, я имею на общественное мнение больше влияния, чем многие из моих действительно ученых противников; подчеркнутые слова не пропущены, а для них-то и вся фраза составлена. Я метил на ученых ослов – Надеждина и Шевырева. Самарин говорит, что согласие князя с вече было идеалом новогородского правления. Я возразил ему на это, что и теперь в конституционных государствах согласие короля с палатою есть осуществление идеала их государственного устройства: где же особенность новогородского правления? Это вычеркнуто. Целое место о Мицкевиче и о том, что Европа и не думает о славянофилах, тоже вычеркнуто. От этих помарок статья лишилась своей ровноты и внутренней диалектической полноты. Ну, да чорт с ней! Мне об этом и вспоминать – нож вострый! Скажу кстати, что и Вам угрожает такая же участь. В заседании Географического общества Панаев столкнулся с маленьким, черненьким, плюгавеньким Поповым.[1186 - Попов Александр Николаевич (1821–1877), историк, университетский товарищ Кавелина, славянофил.] – Я читал ответ Самарину. – Что ж мудреного, когда он напечатан! – Нет, вторую статью, Кавелина.[1187 - «Ответ «Москвитянину». Статья вторая и последняя»; напечатана в 12-й книжке «Современника» 1847 г. (отд. III, стр. 109–134).] – Как же это? – Мне показывал Срезневский (цензор),[1188 - Срезневский Измаил Иванович (см. ИАН, т. XI, письмо 126 и примеч 25 к нему).] и я уговорил его кое-что смягчить. – Видите ли, сколько у нас цензоров и какие подлецы славянофилы!
Насчет Вашего несогласия со мною касательно Гоголя и натуральной школы я вполне с Вами согласен, да и прежде думал таким же образом. Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, для кого и для чего она писана. Дело в том, что писана она не для Вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы, в защиту от их фискальных обвинений. Поэтому, я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренно и не думал соглашаться, и кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета. Например, всё, что Вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не решусь: это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того, чтобы отводить их от нее. А они и так напали на след и только ждут, чтобы мы проговорились. Вы, юный друг мой, хороший ученый, но плохой политик, как следует быть истому москвичу. Поверьте, что в моих глазах г. Самарин не лучше г. Булгарина, по его отношению к натуральной школе, а с этими господами надо быть осторожну.
Вы обвиняете меня в славянофильстве. Это не совсем неосновательно; но только и в этом отношении я с Вами едва ли расхожусь. Как и Вы, я люблю русского человека и верю великой будущности России. Но, как и Вы, я ничего не строю на основании этой любви и этой веры, не употребляю их, как неопровержимые доказательства. Вы же пустили в ход идею развития личного начала, как содержание истории русского народа.[1189 - Белинский имеет в виду статью Кавелина «Взгляд на юридический быт дровней России» (см. письмо 253 и примеч. 13 к нему).] Нам с Вами жить недолго, а России – века, может быть, тысячелетия. Нам хочется поскорее, а ей торопиться нечего. Личность у нас еще только наклевывается, и оттого гоголевские типы – пока самые верные русские типы. Это понятно и просто, как 2 ? 2 = 4. Но как бы мы ни были нетерпеливы и как бы ни казалось нам всё медленно идущим, а ведь оно идет страшно быстро. Екатерининская эпоха представляется нам уже в мифической перспективе, не стариною, а почти древностью. Помните ли Вы то время, когда я, не зная истории, посвящал Вас в тайны этой науки? Сравните-ко то, что мы тогда с Вами толковали, с тем, о чем мы теперь толкуем. И придется воскликнуть: свежо предание, а верится с трудом![1190 - Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. II, явл. 2).] Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше; ожесточенные скептики для меня в 1000 раз лучше, ибо ненависть иногда бывает только особенною формою любви; но, признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве. Как бы ни уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению, представляющей человечество стране, – не верю я их интересам. Любовь часто ошибается, видя в любимом предмете то, чего в нем нет, – правда; но иногда только любовь же и открывает в нем то прекрасное или великое, которое недоступно наблюдению и уму. Петр Великий имел бы больше, чем кто-нибудь, право презирать Россию, но он —
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.[1191 - Цитата из стихотворения Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра…»).]
На этом и основывалась возможность успеха его реформы. Для меня Петр – моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России. Это пример для великих и малых, которые хотят что-нибудь делать, быть чем-нибудь полезными. Без непосредственного элемента – всё гнило, абстрактно и безжизненно, так же как при одной непосредственности всё дико и нелепо. Но что ж я разоврался? Ведь Вы и сами то же думаете или, по крайней мере, чувствуете, может быть, наперекор тому, что думаете.
Ну-с, теперь о житейских делах. Во-первых, Вы не дали мне ответа на мой вопрос: хотите ли Вы по примеру прошлого года составить обзор литературной деятельности за 1847 год по части русской истории?[1192 - В конце статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года» («Современник» 1847, № 1) напечатан разбор исторических сочинений, сделанный Кавелиным. В обзоре литературы за 1847 г. этого не было.] Знаю, как скучно писать несколько раз об одном и том же, а потому и не настаиваю. Но ведь это можно сделать покороче, лишь бы видно было, что говорит человек, знакомый с делом. Как Вы думаете? Если согласитесь, то не откладывайте вдаль, и во всяком случае не замедлите прислать мне Ваше да или нет.
Милютина зовут Владимиром Александровичем.[1193 - Белинский назвал отчество Милютина неверно. См. примеч. 14 к письму 316.] Его адрес: На Владимирской, в доме Фридрикса, квартира № 54.
Насчет Вашего зловредного и опасного для «Современника» участия в «Отечественных записках» отвечу всем вам зараз. Я очень жалею, что потерял напрасно труд и время на длинное письмо к Б<отки>ну и без пользы оскорбил людей, которых люблю и уважаю. Дело вот в чем: Вы обещали статьи Кр<аевско>му потому, что, во-1-х, не видели в этом вреда для «Современника», во-2-х, потому, что два журнала с одинаково хорошим направлением лучше одного. Это Ваше мнение, и Вы совершенно правы.[1194 - Вспоминая об отношении московских друзей Белинского к «Современнику» в 1847 г., К. Д. Кавелин писал, что им было получено письмо от Белинского (не сохранилось), который упрекал его за бездействие по отношению к новому журналу. Об ответном письме К. Д. Кавелина см. «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 93.Ответом на это утраченное письмо Кавелина и являются настоящие строки Белинского.О своих симпатиях к «Современнику» и о желании работать в нем, не отказываясь от участия в «Отеч. записках», Кавелин писал Краевскому еще 12/I 1847 г. (ЛН, т. 56, стр. 185–186).] Что касается до нас, мы думаем иначе. По нашему убеждению, журнал, издаваемый свинцовою <…>, вместо мыслящей головы, не может иметь никакого направления, ни хорошего, ни дурного; а если «Отечественные записки» доселе имеют направление, и еще хорошее, это потому, что они еще не успели простыть от жаркой топки – Вы знаете, кем сделанной, а потом еще от разных случайностей, из которых главная – участие Дудышкина. Но уже несмотря на то, противоречий, путаницы промахов – довольно; погодите немного – то ли еще будет, несмотря на Ваше участие. Вспомяните мое слово, если в будущем году не появится там таких статей и мнений, которые лучше всех моих доводов охладят Ваше участие к этому журналу. Далее. Мы убеждены, что у нас два журнала с одинаковым направлением существовать не могут: один должен жить на счет другого или оба чахнуть. Если, несмотря на Вашу помощь «Отечественным запискам», подписка на «Современник» окажется хорошею, это будет несомненным признаком падения «Отечественных записок». Но мы, благодаря Вам, ожидаем противного. Тогда я в особенности буду иметь причины быть Вам благодарным. Вот наше мнение. Вы стоите на своем, мы – на своем. Ссориться, стало быть, не из чего. Пиша мое письмо, я ожидал от Вас всякого ответа, кроме того, который Вы дали. Если б я это предвидел, вместо яростного и длинного письма, написал бы Вам три-четыре спокойных строки. И потому я беру назад мое письмо и раскаиваюсь перед Вами в его написании. Что же касается до статьи Афанасьева, Вы, милый мой Кавелин, вовсе не так, как бы следовало, меня поняли. Это место моего письма, взятое отдельно, для Вас оскорбительно, а мне мало делает чести. Если Вы взглянете на него с главной точки зрения всего письма, Вы увидите, что тут для Вас ничего нет обидного. Исключительное участие москвичей в «Современнике» мы понимаем, как главную силу нашего журнала, и, основываясь на ней, начали действовать широко и размашисто в надежде будущих благ. Оттого первый год принес убыток. Знай мы заранее, что Вы поддержите Краевского в тяжелую для него годину, мы повели бы дело иначе, поскромнее, т. е. платили бы хорошие деньги только немногим, а всем остальным поумереннее; тогда расход по превзошел бы прихода. Я совершенно согласен с Вами насчет достоинств статьи Афанасьева, но более как статьи ученой, нежели журнальной. Считая Вас исключительно нашими сотрудниками, мы и не думали видеть в 150 р. за лист непомерно большой цены за эту статью; но теперь – другое дело; теперь мы имеем причины горько жалеть и о том, что, вместо обещанных 250 листов, дали 400, – а ведь это сделано не по Вашему же совету. Поняли ли Вы теперь смысл моих слов по поводу статьи Афанасьева? Если нет, – то Вашу руку – извините меня, и забудем об этом так, как будто бы я вовсе не писал, а Вы не читали моего письма.
Что касается до статей Фролова, еще прежде этой истории, лишь только я приехал и узнал о его бесконечном Гумбольдте, как содрогнулся и сказал Некрасову: это зачем Вы печатаете? – Да что ж такое – он хорош с Грановским, почему ж не напечатать, – отвечал мне Некрасов. Фролов человек умный, но ум его поражен хронической болезнию, не то насморком, не то запором. Такие сотрудники – гибель для журнала. Но я всё-таки не понимаю, чем я обидел Грановского, сказавши ему, что из желания сделать ему приятное мы сделали то, за что он на нас вовсе не осердился, если б мы этого но сделали, тем более, что он нас и не просил об этом? Впрочем – чорт знает, может быть, я как-нибудь неуклюже выразился, в таком случае опять прошу извинить меня и дружески забыть всё это.[1195 - См. письмо 316, стр. 420 и примеч. 39 к нему.]
К В. П. Б<отки>ну я не пишу по причине слухов о его скором прибытии в Питер; боюсь, что мое письмо его не застанет в Москве.
Вам, милый мой юноша, понравилось то, что Самарин говорит о народе: перечтите-ко да переводите эти фразы на простые понятия – так и увидите, что это целиком взятые у французских социалистов и плохо понятые понятия о народе, абстрактно примененные к нашему народу.[1196 - О статье Самарина см. письмо 318 и примеч. 8 к нему.] Если б об этом можно было писать, не рискуя впасть в тон доноса, я бы потешился над ним за эту страницу. Повесть «Антон» – прекрасна, хотя и не божественна, как Вы говорите. Читать ее – пытка: точно присутствуешь при экзекуции.[1197 - См. письмо 316 и примеч. 42 к ному.]
Позвольте побранить Вас за неаккуратность. Вашею статьею (второю) о книге Соловьева Вы поставили нас в затруднительное положение: 12 № должен раздуться чудовищно.[1198 - Статья Кавелина о книге С. М. Соловьева «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» была напечатана в «Современнике» в виде трех статей – в №№ 8 и 12 за 1847 г. (отд. III, стр. 43–58 и 161–221) и в № 5 за 1848 г. (отд. III, стр. 1–48). См. также письмо 321.] Если бы Вы неделями двумя раньше уведомили, что пришлете такую-то статью такого-то (приблизительно) размера, тогда из отдела словесности была бы выкинута комедия.[1199 - В № 12 «Современника» 1847 г. была напечатана комедия Шекспира «Много шуму из ничего» в переводе А. И. Кронеберга (отд. I, стр. 229–302).] Ох вы, москвичи, вечно поленитесь во-время сказать нужное словцо.
Тютчев Вам кланяется, а я крепко жму руку и остаюсь Вашим
Б. Белинским.
СПб. 1847, ноября 22.
320. П. В. Анненкову
<1–10 декабря 1847 г. Петербург.>
Дражайший мой Павел Васильевич! Не удивляйтесь сему посланию, столь интересному по его содержанию: Вы его получаете из Берлина.[1200 - Письмо к Анненкову предназначено было Белинским также для Герцена, Бакунина и Сазонова.] Больше ничего не скажу на этот счет; но прямо приступлю к изложению тех необыкновенно интересных русских новостей, которые заставили меня на этот раз взяться за перо.
Тотчас же по приезде услышал я, что в правительстве нашем происходит большое движение по вопросу об уничтожении крепостного права. Г<осударь> и<мператор> вновь и с большею, против прежнего энергиею изъявил свою решительную волю касательно этого великого вопроса. Разумеется, тем более решительной воли и искусства обнаружили окружающие его отцы отечества, чтобы отвлечь его волю от этого крайне неприятного им предмета. Искренно разделяет желание г<осударя> и<мператора> только один Киселев;[1201 - Киселев, граф, Павел Дмитриевич (1788–1872), генерал-адъютант, организатор и руководитель Министерства государственных имуществ (с 1839 по 1856), лидер антикрепостнического меньшинства в Государственном совете и в специальных секретных комитетах, рассматривавших «крестьянский вопрос» в царствование Николая I. Характерно, что Пушкин, упоминая о Киселеве, заметил в своем дневнике 1834 г., что он является «может, самым замечательным из наших государственных людей, не исключая Ермолова» (Полн. собр. соч. Пушкина, Изд. АН СССР, т. XII, М. – Л., 1949, стр. 330).] самый решительный и, к несчастию, самый умный и знающий дело противник этой мысли – Меншиков.[1202 - Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869), член Государственного совета, адмирал, генерал-адъютант, финляндский генерал-губернатор.] Вы помните, что несколько назад тому лет движение тульского дворянства в пользу этого вопроса было остановлено правительством с высокомерным презрением. Теперь, напротив, послан был тульскому дворянству запрос: так ли же расположено оно теперь в отношении к вопросу?[1203 - В начале 1844 г. группа тульских помещиков во главе с П. Н. Мясновым, В. Муравьевым, Н. П. Татищевым, Ошаниным и М. П. Болотовым обратилась к тульскому губернатору с заявлением о желании освободить своих крепостных с земельным наделом по одной десятине на душу, с тем условием, чтобы налоговое обложение крестьян пошло на погашение дворянской задолженности в государственных кредитных учреждениях. Этот проект, позволявший помещикам получить вольнонаемных батраков и освободиться от задолженности, был отвергнут министром внутренних дел из-за отсутствия согласия самих крестьян на такую форму «освобождения».В начале 1847 г. тульский губернатор «по высочайшему повелению» обратился к тульскому дворянству с запросом, не отказалось ли оно от своих планов освобождения крепостных крестьян. После того, как тульские дворяне подтвердили свои намерения, Николай I в апреле 1847 г. предложил им ограничиться составлением проекта освобождения лишь в их имениях. На этом дело и прекратилось (см. В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России, т. II. СПб., 1888, стр. 238–254).] Перовский выписал в Питер Мяснова[1204 - Мяснов Павел Николаевич (род. в 1817), сотрудник «Отеч. записок», помещик Тульской губернии, в 1847 г. – второй кандидат в губернские предводители дворянства.Сохранились два письма Мяснова к Белинскому – от 9/III и 2/IV 1841 г. (БКр, стр. 285–287), опубликованные без имени отправителя. Принадлежность их Мяснову доказана Ю. Г. Оксманом (см. «Летопись жизни В. Г. Белинского». Рукопись, подготовленная к печати Гослитиздатом).В книге Анненкова имя Мяснова зашифровано: M – в; в изд. Ляцкого неверно прочтено: Маслов.О Л. А. Перовском см. письмо 218 и примеч. 6 к нему.] для совещания с ним о средствах разрешить вопрос на деле. Трудность этого решения заключается в том, что правительство решительно не хочет дать свободу крестьянам без земли, боясь пролетариата, и в то же время не хочет чтобы дворянство осталось без земли, хотя бы и при деньгах. Вы имеете понятие о Мяснове. Это человек неглупый, даже очень неглупый, но пустой и ничтожный, болтун на все руки, либерал: на словах и ничто на деле. Роль, которую он теперь играет, забавляет его самолюбие и дает пищу болтовне, а он и без того помолчать не любит. Он говорит, что в губернии его считают Вашингтоном (по его, это значит быть радикалом в либерализме), а вот мы, молодое поколение, хотели бы его повесить, как консерватора, хотя, по правде, мы и не считаем его достойным такого строгого наказания, а думаем, что довольно было бы прогнать его по шее к его лошадям, на его завод – писать для них конституцию; это его настоящее место – конюшня. Раз в доме Колзакова (зятя нашего Языкова) Мяснов принимал у себя молодое поколение аристократии, которая всё рвется служить по выборам, и прочел им свой проект освобождения крестьян. Приехал в половине чтения приятель его Жихарев (сенатор),[1205 - Жихарев Степан Петрович (1788–1860), сенатор, в молодости близкий к литературным и театральным кругам, автор известных мемуаров.] и он вновь прочел весь свой проект, написанный преглупо и начиненный текстами из св. писания. «Сукин ты сын, <…>«, – сказал ему Жихарев, при всех этих Шуваловых, Строгановых и пр., ни мало не привыкших к такому демократическому красноречию в порядочном общество. «Ты сделал смешным твой проект». – А мне что за дело! лишь бы я сделал мое дело, а там пусть смеются! – Да <…>! коли ты сделаешь смешным свое дело, ты погубишь его. Дай сюда! – Вырывает бумагу, складывает и кладет себе в карман. – Я обделаю это дело сам, я примусь за это con amore,[347 - с любовью (итал.). – Ред.] ночи не буду спать – я не говорю, чтобы ты написал всё вздор, у тебя есть идеи, да не так всё это надо сделать. – И Мяснов после говорил Языкову, что он жалеет, что тут не было Виссариона, который посмотрел бы, какая это была минута, когда Жихарев, и пр. Видите ли, какой это государственный человек! И Жихарев принялся за дело ревностно. Какой был результат, т. е. что и как написал он, не знаю, ибо вот уже 4-я неделя, как по причине гнусной погоды не выхожу из дому, а приятели редко ко мне заглядывают, потому что живу теперь не по дороге всем, как прежде. Но знаю, что Мяснов уже выгодно продал свой завод конский троим из молодых аристократов и по условию остался, за хорошее жалованье, смотрителем и распорядителем завода. Итак, дело обошлось не без пользы, если не для крестьян, то для Мяснова! Перовский, который в душе своей против освобождения рабов, а по своему шаткому положению (он теперь в немилости) объявил себя (с Уваровым) за необходимость освобождения, рад, что нашел в Мяснове человека, к которому может посылать всех для переговоров. Но не думайте, чтобы дело это было в таком положении. Всё зависит от воли г<осударя> и<мператора>, а она решительна. Вы знаете, что после выборов назначается обыкновенно двое депутатов от дворянства, чтобы благодарить г<осударя> и<мператора> за продолжение дарованных дворянству прав, и Вы знаете, что в настоящее царствование эти депутаты никогда не были допускаемы до г<осударя> и<мператора>. Теперь вдруг смоленским депутатам велено явиться в Питер. Г<осударь> и<мператор> милостиво принял их, говорил, что он всегда был доволен смоленским дворянством и пр. И потом вдруг перешел к следующей речи. – Теперь я буду говорить с вами не как г<осуда>рь, а как первый дворянин империи. Земля принадлежит нам, дворянам, по праву, потому что мы приобрели ее нашею кровью, пролитою за государство; но я не понимаю, каким образом человек сделался вещию, и не могу себе объяснить этого иначе, как хитростию и обманом, с одной стороны, и невежеством – с другой. Этому должно положить конец. Лучше нам отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у нас отняли. Крепостное право причиною, что у нас нет торговли, промышленности. – Затем он сказал им, чтобы они ехали в свою губернию и, держа это в секрете, побудили бы смоленское дворянство к совещаниям о мерах, как приступить к делу. Депутаты, приехав домой, сейчас же составили протокол того, что говорил им г<осударь> и<мператор>, и потом явились к Орлову[1206 - Орлов Алексей Федорович (1788–1861), генерал-адъютант, шеф жандармов.] рассказать о деле. Тот не поверил им; тогда они представили ему протокол, прося показать его г<осударю> и<мперато>ру – точно ли это слова е<го> в<еличест>ва. Г<осударь> и<мператор>, просмотрев протокол, сказал, что это его подлинные слова, без искажения и прибавок.[1207 - Во время приема депутации смоленских дворян в Зимнем дворце 17 мая 1847 г. Николай I обратился к ним с речью, посвященной необходимости скорейшей ликвидации крепостных отношений. Текст речи Николая I, приведенный Белинским, кроме двух последних фраз, совпадает с опубликованной записью речи (см. В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России, т. II. СПб., 1888, стр. 163–164; PC 1873, № 12, стр. 912).] Через несколько времени по возвращении депутатов в их губернию Перовский получил от смоленского губернатора донесение, что двое из дворян смущают губернию, распространяя гибельные либеральные мысли. Г<осударь> и<мператор> приказал Пер<овско>му ответить губернатору, что в случае бунта у него есть средства (войска и пр.), а чтобы до тех пор он молчал и не в свое дело не мешался. Я забыл сказать, в речи своей депутатам г<осударь> и<мператор> сказал, что он уже намекал (указом об обязанных крестьянах)[1208 - Указ об обязанных крестьянах, предоставляющий помещикам право переводить своих крепостных в свободных хлебопашцев, был издан еще в 1842 г., по реального значения не имел.] на необходимость освобождения, да этого не поняли. Недавно г<осударь> и<мператор> был в Александрийском театре с Киселевым и оттуда взял его с собою к себе пить чай: факт, прямо относящийся к освобождению крестьян.[1209 - 1 сентября 1847 г. Николай I перед отъездом из Петербурга, пригласив к себе П. Д. Киселева, имел с ним длительную беседу о крестьянских делах. Возможно, что этот эпизод и имеет в виду Белинский.] Конечно, несмотря на всё, дело это может опять затихнуть. Друзья своих интересов и враги общего блага, окружающие г<осударя> и<мператора>, утомят его проволочками, серединными, неудовлетворительными решениями, разными препятствиями, истинными и вымышленными, потом воспользуются маневрами или чем-нибудь подобным и отклонят его внимание от этого вопроса, и он останется нерешенным при таком монархе, который один по своей мудрости и твердой воле способен решить его. Но тогда он решится сам собою, другим образом, в 1000 <раз> более неприятным для русского дворянства. Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение. Всё, что делается в Питере, доходит до их разумения в смешных и уродливых формах, но в сущности очень верно. Они убеждены, что царь хочет, а господа не хотят. Обманутое ожидание ведет к решениям отчаянным. Перовский думал предупредить необходимость освобождения крестьян мудрыми распоряжениями, которые юридически определили бы патриархальные по их сущности отношения господ к крестьянам и обуздали бы произвол первых, не ослабив повиновения вторых: мысль, достойная человека благонамеренного, но ограниченного![1210 - «Мудрые распоряжения» Перовского были изложены им в секретной докладной записке Николаю I «Об уничтожении крепостного состояния в России» (1845 г.). В ней Перовский предлагал при постепенном освобождении крепостных точно определить все их повинности специальными «инвентарями», обеспечить в законном порядке их права на движимое и недвижимое имущество, запретить освобождать крестьян без земли и т. д.] Попытку свою начал он с Белоруссии возобновлением уже забытого там со времен присоединения Литвы к России инвентария.[1211 - «Правила для управления имениями по утвержденным для оных инвентарям в Киевском генерал-губернаторстве», утвержденные Николаем I, 26 мая 1847 г. (см. В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России, т. II. СПб., 1888, стр. 492).] Поляки и жиды растолковали мужикам, что инвентарий значит то, что царь хочет их освободить, а господа не хотят, и что царь, бывши в Киеве, хотел к ним заехать, а господа не пустили его. Я думаю, что тут даже не нужна была интервенция поляков и жидов и что такое толкование могло само собою родиться в крестьянских головах, уже настроенных к мыслям о свободе. Итак, Перовский достиг цели, совершенно противоположной той, какую имел. Оно и понятно: когда масса спит, делайте что хотите, всё будет по-вашему; но когда она проснется – не дремлите сами, а то быть худу…
(Сейчас я узнал, что Мяснов, а потом Жихарев, писали не проект, а совет смоленскому предводителю дворянства; бумага неважная, из которой и не вышло никаких следствий.)[1212 - Сведения о подготовке крестьянской реформы Белинский получил, вероятно, от А. П. Заблоцкого-Десятовского, ближайшего сотрудника П. Д. Киселева и впоследствии автора книги «Граф П. Д. Киселев и его время» (1882). Опубликованные в этой книге документы о смоленской дворянской делегации близки к тексту информации Белинского и его освещению событий (см. статьи Ю. Г. Оксмана в «Уч. зап. СГУ», т. XXX, вып. филологич., 1952, стр. 120, и в ЛН, т. 56, стр. 217).]
Так вот-с, мой дражайший, и у нас не без новостей и даже не без признаков жизни. Движение это отразилось, хотя и робко, и в литературе. Проскальзывают там и сям то статьи, то статейки, очень осторожные и умеренные по тону, но понятные по содержанию. Вы, верно, уже получили статью Заблоцкого. В другое время нельзя было бы и думать напечатать ее, а теперь она прошла. Мало этого: недавно в «Журнале Министерства народного просвещения» ее разбирали с похвалою и выписали место о зле обязательной ренты.[1213 - Речь идет о статье А. И. Заблоцкого «Причины колебания цен на хлеб в России», напечатанной в «Отеч. записках» 1847, №№ 5 и 6 (отд. IV, стр. 1–36 и 31–66). В сентябрьской книжке «Журнала Министерства народного просвещении» 1847 г. в «Обозрении русских газет и журналов за второе трехмесячие 1847 года» было приведено содержание этой статьи с большими цитатами из нее (отд. VI, стр. 342–352).] Помещики наши проснулись и затолковали. Видно по всему, что патриархально-сонный быт весь изжит и надо взять иную дорогу. Очень интересна теперь «Земледельческая газета» – орган мнений помещиков. Толкуют о съездах помещиков и т. д.[1214 - «Земледельческая газета» выходила в Петербурге с 1834 г. (два раза в неделю); редактор – С. М. Усов.] Обо всем этом Вам дадут понятие XI и особенно XII №№ «Современника» (смесь).[1215 - В №№ 11 и 12 «Современника» 1847 г. в отделе «Смесь» дана была подробная информация о статьях «Земледельческой газеты» и «Журнала Министерства государственных имуществ» с намеками на недобросовестность некоторых помещиков в отношении крестьян, с изложением деятельности съездов помещиков и пр. (стр. 102–105 и 176–186).]
Что еще у нас нового? Разнесся было слух, что Воронцов по неудовольствию отказывается от Кавказа, ссылаясь на болезнь глаз.[1216 - Воронцов Михаил Семенович (1782–1856), генерал-адъютант, главнокомандующий войсками на Кавказе и наместник кавказский (1844–1853).] Но эта болезнь была не выдуманная, он выздоровел и не думает оставлять Кавказа. А то было говорили, что на его место пошлют Меншикова, чтоб избавиться от докучного оппонента по вопросу об освобождении. Строганов вышел в отставку и, рассказывают, вот по какому случаю. Он получил именное секретное предписание (что-то вроде того, как носятся темные слухи, чтобы наблюдать над славянофилами) и отвечал Уварову, что, находя исполнение этого предписания противным своей совести, он скорее готов выйти в отставку. Разумеется, Уваров поспешил изложить это дело, как явный бунт – и Стр<оганов> был уволен. На место его утвержден скотина Голохвастов. То и другое – большое несчастие для Московского университета.[1217 - Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882), попечитель Московского учебного округа с 1835 по 1847 г. Вышел в отставку из-за враждебных отношений с министром народного просвещения С. С. Уваровым (см. «Русский архив» 1892, № 7, стр. 355–357).О Д. П. Голохвастове см. ИАН, т. XI, письмо 28 и примеч. 1 к нему.]
Перовский в немилости и, говорят, еле держится. Причина: он скрутил по делу Клевоцкого полицмейстера Брянчанинова, как уличенного члена шулерской шайки, и посадил его под арест, отдав под суд. Это было во время отсутствия г<осударя> и<мператора> в Питере. Одна особа женского пола, весьма значительная при дворе, по родству с Брян<чаниновым>, написала к нему письмо, чтобы он не беспокоился, что лишь бы приехал г<осударь>, а то всё будет хорошо, и ему дадут хоть другое, но такое же место. Перовский, захватив бумаги Брянч<анинова>, велел пришить к делу и это письмо… Так говорят.[1218 - О деле Клевецкого, председателя Петербургской управы благочиния (растрата ста пятидесяти тысяч) см. в дневнике А. В. Никитенко от 2 апреля 1847 г. («Записки и дневник», т. I. СПб., 1905, стр. 369). – О полицмейстере Брянчанинове см. в «Былом и думах» Герцена (гл. X – ПссГ, т. XII, стр. 214).]
Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда негодная вещь. Вы помните, что верующий друг мой[1219 - М. А. Бакунин.] говорил мне, что он верит, что Шевченко – человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса – творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля – один на г<осударя> и<мператора>, другой – на государынею и<мператриц>у. Читая пасквиль на себя, г<осударь> хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда г<осударь> прочел пасквиль на и<мператри>цу, то пришел в великий гнев, и вот его собственные слова: «Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но ее-то за что?» И это понятно, когда сообразите, в чем состоит славянское остроумие, когда оно устремляется на женщину. Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал (что, между прочим, доказывает, что они нисколько не злы, а только плоски и глупы), но уверен, что пасквиль на и<мператри>цу должен быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил. Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ничего ровно, и вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения.[1220 - Т. Г. Шевченко 5 апреля 1847 г. был арестован под Киевом в связи с делом тайного общества «Кирилло-Мефодиевское братство». Хотя следствием не была доказана его причастность к Обществу, однако он жестоко поплатился за свои антиправительственные стихотворения, обнаруженные при ею аресте. По приговору следственной комиссии он был определен рядовым в Оренбургский отдельный корпус. Резолюция Николая I гласила: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать».«Пасквиль» на императора и императрицу – знаменитая сатирическая поэма Шевченко «Сон» (1844 г.), направленная против Николая I и Александры Федоровны.Резкий и несправедливый отзыв Белинского о Шевченко был вызван клеветническими слухами о великом украинском поэте-революционере, распространенными III отделением. Не будучи знаком с подлинными взглядами Шевченко, Белинский подозревал его в буржуазном национализме и желании отторгнуть Украину от России. Эти ложные сведения Белинский получил, видимо, от M. M. Попова, автора секретной докладной записки о «Кирилло-Мефодиевском обществе» (см. ЛН, т. 56, стр. 245, а также воспоминания А. М. Петрова «Из далекого прошлого» – «Звенья», V, 1935, стр. 323–327).] Вот Вам доказательство. Вы помните, что в «Современнике» остановлен перевод «Пиччинино» (в «Отечественных записках» тож), «Манон Леско» и «Леон Леони».[1221 - Первая часть романа Жорж Санд «Пиччинино» появилась в «Современнике» 1847, № 6 (отд. I, стр. 207–343). В октябрьском номере «Современника» было напечатано изложение последних глав «Пиччинино» с сообщением, что перевод этого романа «по некоторым особенным причинам» далее публиковаться не будет (отд. «Смесь», стр. 147–153).«Манон Леско» – роман аббата Прево. – «Леон Леони» – роман Жорж Санд.О запрещении печатать в журналах переводы французских романов см. А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I. СПб., 1905, стр. 374–375.] А почему? Одна скотина из хохлацких либералов, некто Кулиш (экая свинская фамилия!) в «Звездочке» (иначе называемой <…>, журнале, который издает Ишимова для детей, напечатал историю Малороссии, где сказал, что Малороссия или должна отторгнуться от России, или погибнуть.[1222 - Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897), литератор, украинский националист, арестованный в то время по делу о «Кирилло-Мефодиевском братстве».Статья П. А. Кулиша «Повесть об украинском народе» была напечатана в «Звездочке. Журнале для детей старшего возраста» 1846, №№ 1–2, 4–7 (см. о ней А. В. Никитенко. Записки и дневник, т I. СПб., 1905, стр. 371–373). За свою новость Кулиш был присужден к двухмесячному заключению в крепости и высылке в Тульскую губернию.] Цензор Ивановский[1223 - Ивановский Игнатий Иоакимович (1807–1886), юрист, профессор Петербургского университета и цензор.] просмотрел эту фразу, и она прошла. И немудрено: в глупом и бездарном сочинении всего легче недосмотреть и за него попасться. Прошел год – и ничего, как вдруг государь получает от кого-то эту книжку с отметкою фразы. А надо сказать, что эта статья появилась отдельно, и на этот раз ее пропустил Куторга, который, понадеясь, что она была цензорована Ивановским, подписал ее, не читая. Сейчас же велено было Куторгу посадить в крепость. К счастию, успели предупредить графа Орлова и объяснить ему, что настоящий-то виноватый – Ивановский! Граф кое-как это дело замял и утишил, Ивановский был прощен. Но можете представить, в каком ужасе было министерство просвещения и особенно цензурный комитет? Пошли придирки, возмездия, и тут-то казанский татарин Мусин-Пушкин (страшная скотина, которая не годилась бы в попечители конского завода)[1224 - Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795–1862), попечитель петербургского учебного округа и председатель цензурного комитета (с 1845 г.), злейший душитель печати.] накинулся на переводы французских повестей, воображая, что в них-то Кулиш набрался хохлацкого патриотизма, – и запретил «Пиччинино», «Манон Леско» и «Леон Леони». Вот, что делают эти скоты, безмозглые либералишки. Ох эти мне хохлы! Ведь бараны – а либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя – всё марают. А с другой стороны, как и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволит печатно проповедывать отторжение от него области? А вот и еще следствие этой истории. Ивановский был прекрасный цензор, потому что благородный человек. После этой истории он, естественно, стал строже, придирчивее, до него стали доходить жалобы литераторов, – и он вышел в отставку, находя, что его должность несообразна с его совестью. И мы лишились такого цензора по милости либеральной свиньи, годной только на сало.
Так вот опыт веры моего верующего друга. Я эту веру определяю теперь так: вера есть поблажка праздным фантазиям или способность всё видеть не так, как оно есть на деле, а как нам хочется и нужно, чтобы оно было. Страшная глупость эта вера! Вещь, конечно, невинная, но тем более пошлая.
Ну, что бы Вам еще сказать? Книги мои я получил 21 ноября/3 декабря. Скоренько – нечего сказать. То-то ждал, то-то проклинал удобство и скорость европейских сношений.
Письмо Ваше, или, вернее сказать, Тургенева, получил. Благодарю вас обоих. Тургеневу буду отвечать, теперь недосуг, и это письмо измучился пиша урывками. Скажите ему, чтобы в письмах своих ко мне он не употреблял некоторых собственных имен, например, имени моего верующего друга. Можно быть взрослому детине с проседью в волосах ребенком, но всему есть мера, – и так компрометировать друзей своих, право, ни на что не похоже. Бога ради, уведомьте меня о брошюрке против Ламартина, по поводу Робеспьера.[1225 - Речь идет о письме Тургенева с припиской Анненкова от 14/26 ноября 1847 г. (Письма, т. III, стр. 384–386). В нем Тургенев сообщал о выходе брошюры «Le Robespierre de M. de Lamartine. Lettre d'un septuag?naire ? l'autour do l'Histoire des Girondins par Fabien Pillet». («Робеспьер Ламартина. Письмо семидесятилетнего старика автору Истории жирондистов Фабиана Пилле»), в которой доказывалось, что «Ламартин сочинил небывалого Робеспьера».]
А затем прощайте. Да, кстати: Историческое общество в Москве открыло документ, из которого видно, что князь Пожарский употребил до 30 000 рублей, чтобы добиться престола. Возникло прение – печатать или нет этот документ. Большинством голосов решено – печатать. Славянофилы в отчаянии. Читали-ль Вы «Домби и сын»? Если нет, спешите прочесть. Это чудо. Всё, что написано до этого романа Диккенсом, кажется теперь бледно и слабо, как будто совсем другого писателя. Это что-то до того превосходное, что боюсь и говорить – у меня голова не на месте от этого романа.[1226 - Роман Диккенса «Домби и сын» в переводе И. Введенского был напечатан как приложение к «Современнику» 1847 г. Кроме того, он публиковался (в переводе Я. А. Бутакова) в «Отеч. записках» 1847, №№ 9–12. По «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский охарактеризовал «Домби и сын» как «превосходный роман, далеко оставивший за собою все прежние произведения Диккенса» (ИАН, т. X, стр. 353).]