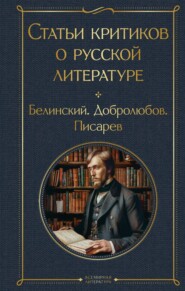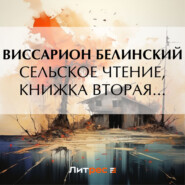По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма (1841–1848)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне хочется разорвать это письмо и ни слова не говорить Вам о том, что так тяжело на меня подействовало; но меня остановила мысль, чтобы Вы знали меня таким, каков я есть. Поэтому я боюсь скрыть от Вас какое бы то ни было движение души моей. Охотно признаюсь Вам в несправедливости моего упрека Вам за танцы и прошу Вас извинить меня за него. Что касается до меня, – в дождь по Невскому я не гулял. Я поехал обедать к Комарову (по воскресеньям я всегда езжу обедать или к Ком<арову>, или к Вержбицкому), поехал, когда не было дождя, а по дороге меня застал проливной дождь и промочил насквозь мне ноги.
M-lle Agrippine назвала меня Подколесиным. Всякий мужчина перед женитьбою есть Подколесин, только один лучше, другой хуже умеет скрывать это. Я, разумеется, всех хуже. Что я писал к Вам письмо до 12 часов ночи, – Вы можете бранить меня за это сколько Вам угодно. Что мне делать? У меня нет Вашего благоразумия в деле переписки с Вами, и я не могу сказать себе: «буду писать тогда-то», а пишу, когда захочется писать. Вот сегодня, хотя бы я и рано лег, я не усну скоро, и потому хочу работать. Работу я запустил, ибо, не зная причины Вашего долгого молчания, всё беспокоился и тосковал, а работа не шла на ум. Я, точно, бестолков, а Вы – надо в этом отдать Вам полную справедливость – Вы очень благоразумны. Кстати о благоразумии и Татьяне – да нет, я сегодня не в состоянии рассуждать с Вами об этой прекрасной россиянке, за которую Вы так горячо заступаетесь.
Что касается до Б<откина> и его горя, – Вы не совсем так поняли всё это. Что Arm не 30, а только 20 лет, в этом нет беды, а худо то, что они друг друга не понимают и что между ними ничего общего нет. Быть связанным с женщиною, которая меня горячо любит, которую я не могу не уважать за благородную душу и страстное сердце, но которая не знает ни того, чем я здоров, ни того, чем я болен, с которою мне не о чем слова перемолвить, с которою я молюсь не одному богу, с которою у меня нет ни одной общей симпатии, ни одного общего интереса, – о,[84 - Далее зачеркнуто: тот] не чудак я буду, если скажу: зачем она дитя, зачем ей не 30 лет! Есть люди, которые любят в женщинах больше всего наивность и разные милые качества; есть другие, которые в женщине хотят видеть прежде всего человека, по образу и по подобию божию созданного: Б<откин> из таких людей.
Ваше изъяснение насчет моего друга нисколько не озлобило меня, тем более, что я сам виноват в том, что Вы поняли это дело довольно в смешном виде: мне бы или совсем не следовало говорить Вам о нем ни слова, или бы надо было сказать поподробнее.
Адресы на моих письмах все без исключения писаны не мною, а Б<откины>м.
Да! скажите: может быть, Ваше твердое намерение не писать ко мне больше одного раза в неделю означает также и нежелание получать от меня больше одного письма в неделю? Уведомьте меня о Вашей воле в этом отношении. И если такова, действительно, Ваша воля, то, как ни больно мне это, а я постараюсь ее выполнить.
Какие ночи, боже мой! какие ночи! Моя зала облита фантастическим серебряным светом луны. Не могу смотреть на луну без увлечения: она так часто сопровождала меня в то прекрасное время, когда, бывало, возвращался я из Сокольников. Но теперь, в эту минуту, мне не весело смотреть и на чудную ночь. Прощайте, Marie, жму и целую Вашу руку и прошу ее написать ко мне хотя одно ласковое слово – оно утешило бы меня. – Почему-то мне захотелось перечесть Ваше второе письмо – оно доставило мне столько счастия.
* * *
Середа 29
Долго не имел я духу ни перечесть своего письма, ни отослать его к Вам. А всё потому, что боялся или огорчить и обеспокоить Вас долгим молчанием, или показаться Вам смешным, придавая важное значение тому, что в глазах Ваших, может быть, очень обыкновенно и мелко. О, тысячу раз простите меня, если я был глуп и понял Ваше письмо не так, как должно было понять его![85 - Далее зачеркнуто: По крайней мере] Во всяком случае, я был бы рад и счастлив, если бы это мое письмо не огорчило Вас.
Всё это время я был не в духе и не совсем здоров. Я слишком impressionnable,[86 - впечатлителен (франц.). – Ред.] и душевное состояние мое так же сильно действует на здоровье, как и здоровье на душу. Теперь мне как будто лучше, и для того, чтобы мне было совершенно хорошо, недостает только нескольких дружественных строк, написанных Вашею рукою. О, тогда я снова буду счастлив и снова буду жить и дышать ожиданием Ваших писем.
Ответ на мое последнее письмо[670 - Письмо 230.] надеюсь получить послезавтра (в пятницу, 1 октября), думая, что он отослан во вторник. Но знаю, обманет ли меня моя надежда.
Вчера только отделался я от 10 книжки «Отечественных записок».[671 - В 10-й книжке «Отеч. записок» 1843 г. были напечатаны третья статья о Пушкине и семь рецензий Белинского (см. ИАН, т. VII, №№ 21, 36–42).] Мочи нет, как устал и душою и телом; правая рука одеревенела и ломит.
Прощайте.
Ваш В. Белинский.
232. Д. П. Иванову
СПб. 1843. Октября 1
Любезный Дмитрий, писал я к тебе недели две назад о том, чтобы ты написал к Петру Петровичу, когда будет готова грамота, и уведомил бы меня об этом.[672 - Это письмо Белинского не сохранилось. – Свидетельство о происхождении было необходимо Белинскому для венчания. – Петр Петрович – отец Д. П. Иванова (см. о нем ИАН, т. XI, примеч. к письму 15).] Но ты ни слова. Бога самого ради – ответь мне, если не хочешь обидеть меня насмерть. Дело важное и отсрочки не терпит. Если ты не написал по следующей почте к П<етру> П<етровичу>, то напиши по следующей же почте: что-де заклинаю всем святым поторопиться насчет грамоты, и если в грамоте не будет выражения сыну покойного штаб-лекаря и пр., то прислали бы мне свидетельство о смерти отца моего. Друг Дмитрий, если не хочешь поступить со мной, как с врагом, то пошли мне ответ в четверг же, что вот-де я вчера послал письмо к отцу и т. д. Пожалуйста. Не заставь меня мучиться.[673 - Д. П. Иванов в письме от 8/Х 1843 г. сообщал, что им сделано всё для получения необходимых Белинскому документов (ЛН, т. 57, стр. 231).]
Твой В. Белинский.
233. М. В. Орловой
СПб. 1843, октября 1
Ваше письмо доконало меня во всех отношениях. Вы ждете моего ответа, чтобы сообразно с ним распорядиться. Само собою разумеется, что я поступлю так, как Вы хотите, как ни страшно тяжело это для меня. Vous ?tes esclave[87 - Вы – рабыня (франц.). – Ред.] и прекрасная россиянка – не в обиду Вам будь сказано. И это мне горше всего. Конечно, сбережение денег – вещь важная, и что я истрачу на проезд, всё это могло б быть употреблено с большею пользою; но деньги не могут еще быть крайним препятствием. Гораздо важнее для меня потеря времени, ибо я нужен Краевскому, и он довольно уже терпел отлучки и помеху работе. Но что всего хуже, всего ужаснее, – это покориться обычаям шутовским и подлым, профанирующим святость отношений, в которые мы готовы вступить с Вами, обычаям, которые я презираю и ненавижу по принципу и по натуре моей. У дядюшки обед! Будь прокляты все обеды, все дядюшки, все тетушки и все чиновники с их гнусными обычаями. Если бы Вы приехали в Петербург, – тихо, просто, человечески обвенчались бы мы с Вами в церкви какого-нибудь учебного заведения, и присутствовали бы тут человек пять (никак не более) моих друзей да одна из жен моих друзей, с которою могли бы Вы приехать в церковь, если бы, в качестве прекрасной россиянки, нашли бы неловким приехать туда со мной. Я смотрю на этот обряд, как на необходимый юридически акт, и чем проще он совершится, тем лучше. Б<откин> взял Arm под руку, да и пошел с нею по Невскому в Казанский собор, в сопровождении пяти[88 - Первоначально: трех] приятелей – так и воротился, словно с прогулки. Вы могли бы остановиться у меня, ибо что Вам за дело до того, что об Вас станут говорить люди, которых Вы не знаете и никогда не узнаете; а те, которых Вы будете знать, будут на это смотреть, как я. Знаете ли что? Я должен теперь лгать перед моими друзьями, ибо я никогда не решусь сказать им о Ваших мотивах и той шутовской процедуре, которую должен я буду пройти в Москве. Они не поверят, что слышат это от Белинского.[89 - Далее зачеркнуто: Но делать нечего. По крайней мере] Причины Ваши все недостаточны и ложны. M-me Charpiot[674 - Начальница Александровского института.] Вы легко могли бы приготовить, могли бы уверить ее, что мои дела не позволяют мне ни на день отлучиться из Петербурга, что через это я потеряю место, которым существую, и что Вы, с своей стороны, находите смешным отказываться от того, что считаете своим счастием, для глупых условных приличий. Кстати замечу, что в Питере ни один человек не поймет, в чем тут неприличие, ибо в Петербурге нравы ближе к Европе и человечности, – не то, что в Москве, этом ?gout,[90 - сточной яме (франц.). – Ред.] наполненном дядюшками и тетушками, этими подонками, этим отстоем, этою изгарью татарской цивилизации. При венчании будут – пишете Вы – всего человек двадцать да с моей стороны человек 10 или 15; да зачем и где наберу я такую орду? У меня всё такие знакомые, для которых подобное зрелище нисколько не интересно. Будут, может быть, человека три. Вы даже убеждены, что если бы мы, обвенчавшись, не уехали в тот же день – то были бы должны делать и отдавать визиты, – иначе подпадем анафеме; ах, Marie, Marie, да что же Вам за дело до всех этих анафем? Неужели Вам мало любви и уважения человека, которого Вы избрали в спутники Вашей жизни, уважения и приязни всех тех, которых он уважает и любит, – а Вы хотите еще знать, что об Вас говорят люди, с которыми у Вас нет ничего общего, которым до Вас так же, как и Вам до них, нет дела?.. Приятели, которые дали мне совет предложить Вам ехать одной в Питер, живут в действительности, а не в эмпирее – они люди женатые и отцы семейств, прозу жизни знают хорошо, но они не москвичи, не татары и не калмыки, а петербургские жители. Когда я, по какому<-то> грустному предчувствию, принял их совет нерешительно, они начали надо мною смеяться и бранить меня, говоря утвердительно, что с Вашей стороны препятствия быть не может, и думая видеть его с моей.
Да что об этом говорить! Если Вы меня знаете и понимаете, то поймете, что во мне говорит это не Подколесин, а человек (я слово человек употребляю как антитез москвичу). Не скрою от Вас и того, что мне горько видеть в Вашей воле те самые предрассудки, которых Вы выше умом Вашим. Я думал, что мое предложение обрадует Вас, как простое средство избавиться от необходимости делать из себя спектакль, и что Вы ухватитесь за него со всею силою Вашего характера и Вашей воли, уступчивых в пустяках (как Вы мне говорили), но твердых и настойчивых в важных делах. Но – быть так; я приеду, и умоляю Вас только вот о чем; венчаться в приходе Нового Пимена (это важно потому, что можно избежать повестки) и часа в 4, чтобы из церкви же ехать в контору дилижансов (есть одна, где дилижансы отходят в 6 часов вечера).
Упрек Ваш в болтовне несправедлив. Что я женюсь, это знает только семейство Корш, и то не знает, на ком. Щепкиным я не только ничего не говорил, но боялся, чтобы они не узнали, почему я редко у них бываю. Откуда вышла сплетня, не знаю. Но, видно, Москва носом слышит новости. Очень жалею о страданиях m-lle Agrippine, но не я виноват в них.
К счастию, Ваше письмо получил я сегодня очень рано (в 10 часов) и потому сегодня же могу и отвечать Вам. Мой ответ должен быть у Вас в руках в понедельник (3). Бога ради, отвечайте поскорее.[91 - Далее зачеркнуто: А теперь – отчего всё это время бываю]
Что касается до моей статьи, то взгляды мои в ней Вы разделяете только теоретически:[675 - Вторая статья о Пушкина. См. письма 225, 229, 230.] Ваше письмо доказывает, что на практике мы розно понимаем вещи. Прощайте. Не сердитесь на меня за сердитые фразы: надо же мне дать волю высказать тяжесть души, – после этого я буду смирен, как теленок, и буду мычать у Ваших дядюшек и тетушек.
Ваш В. Белинский.
234. М. В. Орловой
Суббота, 2 октября 1843. СПб
Я никого не люблю огорчать ни умышленно, ни неумышленно, и, когда мне случится это сделать или так, или этак я страдаю больше тех, которых огорчил. Тем мучительнее для меня мысль, что, может быть, я огорчил Вас вот уже двумя письмами, от которых Вы ожидали только удовольствий и радости. Вот причина этого нового письма, которое будет для Вас совсем неожиданно. Давеча[92 - Первоначально: Вчера] поутру (это письмо пишется в пятницу же, ночью) я был слишком расстроен и потрясен Вашим письмом, и потому не мог отвечать на него спокойнее и кротче, как бы следовало. Теперь я спокойнее и хочу[93 - Далее зачеркнуто: хладнокровно] поговорить с Вами всё о том же, только хладнокровнее и рассудительнее. Когда я писал Вам насчет Вашего приезда в Петербург, я делал это в вопросительном тоне, из которого Вы могли видеть, что я готов последовать не моему, но Вашему решению касательно этого предмета. Я тут нисколько не хитрил, ибо единственною причиною, которая могла бы остановить Вас, полагал боязнь ехать одной и подвергнуться, может быть, каким-нибудь неприятным случайностям в дороге, не имея при себе мужчины. Хотя подобных случайностей на дороге между Москвою и Петербургом не бывает и хотя по этой дороге поездка теперь сделалась очень обыкновенного, удобною и безопасною, но, кого любишь, за того боишься всего, и меня самого пугала мысль, что Вы поедете без меня; а потому, в случае Вашего несогласия, я спокойно располагался приехать сам в М<оскву>. Я но думал ни о дядюшках и тетушках, ни о m-me Charpiot (если и думал о последней, то предположительно только), ни об официальном обеде, с шампанским и поздравлениями, с идиотскими улыбками и, может быть, – о, infamie![94 - позор (франц.). – Ред.] – с чиновническими шутками и любезностями. В этой поистине пленительной картине недостает только свахи, смотра, сговора, девишника с свадебными песнями… Кажется, что – и при этой мысли ужас проникает холодом до костей моих – в посаженом отце и посаженой матери недостатка не будет, и нас с Вами встретят с образом, и мы будем кланяться в ноги. Знаете ли что? – мне больно не одно то, что Вы осуждаете меня на эту позорную пытку, но то, что Вы обнаруживаете столько r?signation[95 - покорности судьбе (франц.). – Ред.] в этом случае в отношении к самой себе. Это для меня всего тяжелее. Вы даже не хотите понять причины моего ужаса и отвращения к этим позорным церемониям и приписываете это трусости Подколесина. Во мне так много недостатков, что уже ради одной их многочисленности не следует мне приписывать несуществующих во мне. Подколесин трусит мысли, что вот-де всё был не женат, и вдруг женат. Я понимаю такую мысль, но она не может же меня испугать до того, чтобы я хотя на секунду, в уединенной беседе с самим собою, пожалел о моем решении жениться. В таком случае я чувствовал бы себя недостойным Вас и стал бы сам себя презирать. Такая мысль (т. е. подколесинский страх женатого состояния) может меня беспокоить как необходимость выехать в собрание или пройти по улице в мундире, но не больше. Подколесин пугается не церемоний и неприличных приличий – напротив, он не понимает возможности брака без них, и без них пропал бы от ужаса при мысли, что об этом говорят. Из окна я не выброшусь, но не ручаюсь, что накануне венчанья не проснусь с сильною проседью на голове и что в эту ночь не переживу длинного, длинного времени тяжелой внутренней тревоги. И пиша эти строки, я глубоко скорблю и глубоко страдаю от мысли, что Вы не поймете моего отвращения к позорным приличиям и шутовским церемониям. Для меня противны слова: невеста, жена, жених, муж. Я хотел бы видеть в Вас ma bien-aim?e, amie de ma vie, ma Eug?nie.[96 - мою возлюбленную, друга жизни моей, мою Евгению (франц.). – Ред.][676 - Героиня романа Ж. Санд «Орас». См. письмо 204 и примеч. 8 к нему.] В церемонии венчанья я вижу необходимость чисто юридического смысла. По моему кровному убеждению, союз брачный должен быть чужд всякой публичности, это дело касается только двоих – больше никого. Вы боитесь scandale, анафемы и толков – этого я просто не понимаю, ибо я давно позволил безнаказанно проклинать меня и говорить обо мне всё, что угодно, тем, с которыми я на всю жизнь расплевался. Таковые для меня не существуют. У меня есть свой круг и свое общество, состоящее всё из людей, женившихся совсем не по-российски. Вы пишете, что теперь поняли всю дикость нашего общества и пр. Знаете ли, что ведь Ваши слова – не более как слова, слова и слова?[677 - Цитата из «Гамлета» Шекспира (д. II, явл. 1).] Ибо они не оправдываются делом. Общество улучшается через благороднейших своих представителей, и ведь кому-нибудь надо же начинать. Вы похожи на раба-отпущенника, который хотя и знает, что его бывший барин уже не имеет никакой над ним власти, но всё по старой привычке почтительно снимает перед ним шапку и робко потупляет перед ним глаза. Мне кажется, что разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы он видел, что неразумно живет.
Из всех изложенных Вами причин невозможности ехать Вам в Питер я нахожу резонною только одну: неприятные отношения, в которые станет А<графена> В<асильевна> к своим родственникам. Я согласен, что, в этом отношении, не должно дразнить гусей; но должно сделать так, чтобы Вы настояли всё-таки на своем, а гусей не раздразнили. Для этого есть очень простое средство: попросите у дядюшки (смиренно и интимно) совета в деле, на исполнение которого Вы и без него решились твердо. Может быть, он и поспорит, но потом непременно согласится, если поведете дело искусно и сумеете поладить с его самолюбием. Судя по Вашим же о нем рассказам, он человек не глупый и поймет, что смешно же Вам из уважения к разным, хотя бы и важным, аппарансам,[678 - От франц. apparence – внешнее явление.] отказываться от того, что и по его мнению должно составить счастие Вашей жизни. А я прилагаю Вам при сем (на всякий случай) официальное письмо к Вам, которое Вы можете показать ему. Если он согласится, то и тетенька (о милое слово!) тоже согласится. Сперва им будет это дико, но дня через три, привыкнув к этой мысли, они найдут ее очень естественною. Так же точно Вы можете поступить и с m-me Gharpiot. И по русской пословице – и овцы будут целы, и волки будут сыты. Потом изредка письма из Питера к m-me Ch и к родственникам, – и m-lle Agrippine будет в лучших отношениях и с тою и с другими.
Повторяю Вам, я поступлю так, как решите Вы в ответе на это письмо (которым не медлите ни минуты, ибо время становится дорого); хотя, кроме сказанного мною об ужасе и отвращении, какое внушает мне одна мысль об ожидающих меня в Москве мещанских (bourgeois) проделках, есть и еще весьма неприятное обстоятельство: Краевскому крайне неприятна мысль о моем отъезде, и, несмотря на все мои доводы, он не видит достаточной для нее причины. И потому мне теперь надо страшно работать, чтобы статьи последних №№ поспели ко времени и были хороши. Однако ж всё это я употреблю все мои силы преодолеть. Но, несмотря на то, умоляю Вас, Marie, – заставьте за себя вечно молиться богу и не обидьте сироту круглого – ведь ни батюшки, ни матушки, ни роду-племени, – попытайтесь устроить дело, как я Вам говорю. На коленах умоляю Вас. Если не удастся – ну, делать нечего – двух смертей не будет, одной не миновать.
Мне кажется, что Вас тут, кроме других причин, страшит мысль ехать одной. О дороге ни слова – это вздор. Возьмите место в карете malle-poste и выберите день, когда соседнее с Вами место занято будет дамою же. Если бы – чего да избавит бог – Вы заболели дорогою, то на всякой станции найдете Вы особую комнату и прислугу и можете послать ко мне письмо с своим же кондуктором, который, в надежде получить от меня целковый, сейчас же доставит его мне, и я явлюсь к Вам немедленно. Если же Вас страшит мысль не ехать, а приехать одной в Питер, – то надо, чтобы Вы считали меня за Ивана Александровича Хлестакова, который в одно прекрасное утро хлоп перед Вами на колена, да и закричал: «Руки прошу, Марья Антоновна!»,[679 - Неточная цитата из «Ревизора» Гоголя (д. IV, явл. 13).] а потом, как Вы приехали… да нет, у меня не достает духу кончить фразу, – и я прошу у Вас прощенья в нелепом предположении.[97 - Далее зачеркнуто: Октября 2. Вы не простужались]
Касательно причин, которые можете Вы представить m-me Charpiot и дядюшке, я уже писал Вам в письме, полученном Вами вчера. Вы нисколько не будете лгать, если скажете, что я не могу отлучиться из Петербурга по причине моих занятий. Вам придется только прикрасить эту истину, сказав, что я, в случае поездки, лишусь места при журнале, которое дает мне 6000 р. асс. в год и которое отдастся другому. Неужели такого довода мало для этих людей?
Октября 2
Еще слово о приятелях, давших мне совет предложить Вам ехать одной в Петербург. Это Комаров, пять лет женатый, Краевский, уже два года вдовый, и Вержбицкий, двенадцать лет женатый. Вы, может быть, насмешливо улыбнетесь при этом исчислении лет женатой жизни, но я говорю дело, и Вы согласитесь со мною, что женатая жизнь не дает человеку жить в эмпирее в том смысле, какой Вы даете этому слову. Дело здесь в том, что в Петербурге, если бы о Вашем приезде дано было знать целому городу, никто бы не нашел этого странным, а все нашли бы это очень естественным и обыкновенным. Петербург столетием обогнал Москву и на 700 верст ближе ее к Европе. В Питере люди заняты, живут работою и знают, что такое время. Поэтому в Петербурге приезды невест к женихам (какие гнусные термины) не редки и обыкновенны. Калмыцкий принцип родства в Петербурге очень слаб в сравнении с Москвою. В Петербурге никому нет дела до других, потому что много своих хлопот. Там брат по году не видит брата, не будучи в ссоре. Москве больше нечего делать, как жрать и сплетничать. Разумеется, для нее позевать на свадьбу – великая радость; да какая же радость лишить ее этой радости! Неужели Вы не понимаете этого? Неужели, сказавши: «Je suis esclave, esclave pardessus les oreilles»,[98 - «Я рабыня, рабыня по уши» (франц.). – Ред.] Вы этим и утешились, решившись навсегда остаться при этом? Я ловлю Вас на этом слове, – и как я ненавижу ложь и скрытность с теми, кого люблю, то скажу Вам прямо, что не верю, будто положение А<графены> В<асильевны> заставляет Вас так действовать: нет, причина этому – Votre esclavage,[99 - Ваше рабство (франц.). – Ред.] Ваша московская боязнь того, что скажут о Вас люди, которых Вы в душе презираете и не любите, но перед мнением которых Вы ползаете. Это стыдно и грех. Это преступление перед богом и перед совестью. Скажу более: это низко и недостойно Вас. Если бы Вы, в понятиях Ваших, шли в уровень с толпою – тогда другое бы дело.
И при этом Вы себя жестоко обманываете. Вы думаете, оставаясь в Москве, избрать из двух зол меньшее, – а я убежден в том, что вблизи, когда будет то, что теперь еще вдалеке, Вы горько раскаетесь, что не последовали моему совету. Вас измучает вмешательство этих людей, которым столько дела до других, Вас убьет пошлость и тривиальность этих проделок. Вы увидите, что их больше, чем Вы предвидели, что они гнуснее, чем Вы воображали. Что до меня, моя фигура в одно и то же время и жалкая и свирепая, и шутовская и звериная (ибо я не умею притворяться, да и не имею в этом нужды, не будучи рабом мнения подлой, презираемой мною толпы) вызовет толки, горькие для Вас. Скажут, пожалуй, что я женюсь на Вас потому только, что уж сказал слово, и что поэтому мое венчанье походило на похороны. А такого рода толки таковы, что возмущают мою душу заранее, при всем моем презрении к мнению толпы, ибо эти толки оскорбляют не меня, а Вас, – а я многое в состоянии перенесть, кроме того, что бы могло бросить на Вас какую-либо тень и так или сяк оскорбить Вас. С некоторого времени я научился молиться, и моя молитва такого содержания:
A vous le calme – ? moi l'orage.[100 - Вам покой – мне буря. (Франц.) – Ред.][680 - Источник цитаты не установлен.]
Итак, Вы будете страдать вдвойне – и за себя и за меня. Приезжайте Вы в Петербург одни – ничего этого не будет. Люди, которые будут присутствовать при церемонии, Вам совершенно чужды, и тем лучше для Вас; они расположены к Вам хорошо и уважают Вас заранее и высокого о Вас мнения уже по тому одному, что Вы (это не мои, а их собственные слова) могли понять меня. Они уже расположены заранее мерять Ваши достоинства не масштабом толпы, ибо они знают, что мне нужно и что меня может сделать счастливым. И потому, будучи среди чужих, Вы больше будете среди своих и родных, чем в Москве. Если Ваша княгиня Марья Алексеевна[681 - См. примеч. 16 к письму 230.] запретит Вам остановиться прямо у меня, т. е. у самой себя, то можете остановиться у Краевского (у которого живет девушка, сестра покойной жены его), у Панаева (это в одном доме со мною), у Языкова, у Комарова – у кого хотите; все они радехоньки и наперерыв мне предлагают. Жена Языкова[682 - См. письмо 210, примеч. 20.] очень дика, и так как я не смущал ее разговорами, пока она не привыкла ко мне, то она меня очень полюбила. Муж ее знает нашу тайну, и я позволил ему сказать это его жене. Она ему изъявила свое желание, чтобы Вы остановились у нее, и сказала при этом, что она, еще не видя Вас, уже любит Вас за то, что Вы моя невеста. Если же Вам покажется неловко и тяжело явиться со мною в чужой для Вас дом и к чужим для Вас людям (что я понимаю и против чего спорить не буду), – и это дело поправимое: Вы можете остановиться в одной из лучших гостиниц Петербурга – ведь это будет стоить всего каких-нибудь 25 р. асс. со всеми издержками, потому что это на одни сутки, ибо на другой же день и венчаться. Можно бы, пожалуй, и в тот же (т. е. в день приезда), да с дороги надо же Вам отдохнуть и оправиться. Вы меня уведомите, на какое число Вы взяли место, я жду Вас в день приезда в конторе malle-poste или дилижансов. Не будет у нас ни обеда, ни дядюшек с тетушками, воротимся мы с Вами из церкви одни. Незаметно пройдет несколько дней, и мы привыкнем к нашей новой жизни, и всё сделается обыкновенным, без оскорбляющих человеческое достоинство сцен и спектаклей.
Marie, – еще раз прошу и заклинаю Вас всем святым для Вас в жизни – да идет мимо меня чаша сия! Не дайте погибнуть мне во цвете лет и красоты. Мне особенно жаль последней, т. е. моей красоты, ибо я буду очень некрасив всё время моего плачевного пребывания в Москве. Если же нельзя иначе – что делать! В таком случае я, конечно, не имею нужды уверять Вас, что будет по-вашему, а не по-моему.
Вы были больны, бедный друг мой, больны без простуды; это меня больше потревожило, нежели сколько потревожило бы, если бы Вы простудились. Когда к пиявкам прибегают без простуды, ушиба или другого случая, это должно быть очень невесело. А Вы всё толкуете о моем здоровье – как будто не знаете, что чорт ли мне делается. Вы пишете, что не можете тотчас же отвечать на мои письма потому, что у Вас дрожит рука; зачем же Вы, злая Marie, не сказали этого раньше и через то заставили меня написать к Вам преглупое и прегрубое письмо, которое Вы получили сегодня (2 октября, суббота)? Зачем Вы в Вашем третьем письме приняли такой холодный и высокомерный тон, как будто Вам лень и смотреть на нас, nous autres, pauvres diables?[101 - нас, бедных дьяволов (франц.). – Ред.] Затем, что Вы женщина и не можете не быть верны своей женской натуре? Да от этого мне-то не легче, потому что если Вы кошка (виноват: все женщины более или менее кошки), то я медведь или наипаче бульдог и не умею проникать в[102 - Далее зачеркнуто: женские] капризы и противоречия женского сердца. Дело прошлое, а письмо Ваше тяжело подействовало на мою медвежью натуру. Если мое причинило Вам хоть минуту грусти, то будь я проклят за это и да разорвут меня на куски дядюшки и тетушки всего мира. Мир, Marie, – дайте мне Вашу руку, которой в эту минуту я как будто чувствую обаятельное прикосновение – дайте мне крепко, крепко пожать ее и прижать к моим горящим устам, чтобы упала на нее накипающая на глаза слеза. Вижу в эту минуту Вас перед собою, смотрю в Ваши глаза и тону в глубине Вашего полного любви взгляда. Ах, Marie, Marie, Вы, которая так умеете понимать, чувствовать и любить – Вам ли быть рабою мнений дикой толпы? Вам ли иметь так мало силы характера и воли и дрожать призраков и теней, которыми пугают только глупцов? О нет, я уверен, что это только непривычка к новым мыслям, исполнение которых на деле требуется так безотлагательно, – Не больше; я уверен, что теперь внутри Вас раздается за меня сильный голос и что Вы выйдете из этой борьбы победительницею. Вам бог дал высокий рост – зачем же приседать, горбиться и сгибаться? Вам бог дал столько ума – зачем же ему ограничиться одною теориею и не перейти в жизнь, дабы самым делом служить господу и хвалить его? Вашу руку, Marie, Вашу руку – мне дал Вас бог, и потому я хочу, чтобы Вы были моею не только перед людьми и светом, но и перед богом; а это возможно только тогда, когда Вы и чувством, и словом, и делом вместе со мною станете перед ним на колена. Отвечайте мне скорее и не забывайте, что всё-таки, если надо будет мне приехать в Москву, я приеду.
Ваш В. Белинский.
235. М. В. Орловой
<2 октября 1843 г. Петербург.>
Милостивая государыня
Мария Васильевна!
Мне очень прискорбно, что я должен огорчить Вас этим письмом; но Вы, конечно, поверите мне, если я скажу Вам, что мне самому это очень тяжело. Дела мои приняли такой оборот, что мне ни на единую неделю невозможно оторваться от журнала и отлучиться из Петербурга. Причина этому та, что я и так целое лето прожил в Москве, почти ничего не делая для «Отечественных записок». Но летние месяцы еще не так важны для журнала; теперь настала для него самая важная пора: от ноября до мая продолжится подписка, и книжки за эти месяцы должны быть одна другой лучше. Отложить наше дело до лета – одна мысль о такой отсрочке приводит меня в ужас и тоску; но сверх того, будущим летом мне еще больше нельзя будет выехать из Петербурга ни даже на три дня, потому что Краевский в мае месяце едет через Москву (где остановится на некоторое время для свидания с матерью) в Крым и проездит почти до октября, а на это время мне поручает свой журнал. Вы не знаете, что такое журнал: от него ни на минуту нельзя отойти. А между тем, я, как Вам известно, существую журнальною работою; если я против воли Краевского выеду из Петербурга и тем поставлю его в затруднительное положение, это будет знаком, что я не хочу больше работать в его журнале, а он имеет право пригласить на мое место другого сотрудника. В таком ужасном для меня положении я беру на себя смелость сделать Вам предложение, мысль о котором подал мне Краевский и которое Вам, надеюсь, не покажется странным или неуместным, как вызванное обстоятельствами и необходимостию. Это – приехать Вам в Петербург одной, с тем чтобы на другой же день была церемония. А остановиться на одни сутки можете Вы у известной Вам Марьи Александровны Комаровой, урожденной Дементьевой, бывшей Вашей воспитанницы, которая через меня усердно Вас об этом просит, равно как и муж ее, Александр Александрович Комаров, с которым мы большие приятели. Я смею надеяться, что подобное предложение не будет Вами отринуто и что вынужденное обстоятельствами, а не моею прихотью, минование некоторых установленных приличием и необходимых обыкновений Вы не сочтете достаточной причиною лишить меня счастия, которое так давно было моею сладчайшею мечтою. Мне самому очень прискорбно, что священный обряд нашего соединения не будет почтен драгоценным присутствием Ваших почтенных родственников и столь мною уважаемой и любимой Вами начальницы Вашей madame Charpiot, к которой Вас привязывает и чувство признательности и благородный ее характер; но что ж делать? Я смею думать, что как Ваши почтенные родственники, так и Ваша достойная начальница madame Charpiot найдут мои резоны основательными и не посоветуют Вам сделать навсегда несчастным человека, которого чувства к Вам нашли отзыв в Вашем сердце, – потому только, что он не может выполнить некоторых весьма справедливых и уважительных требований приличия, но выполнение которых – обстоятельства делают для него решительно невозможным. Впрочем, в Петербурге, где все заняты должностями и каждый дорожит даже и одним днем, между людьми небогатыми такие примеры не редки, и никто не находит их странными и удивительными. С волнением и трепетом ожидая Вашего ответа, от которого так многое будет зависеть для меня в жизни, и прося Вас передать мое почтение сестрице вашей Аграфене Васильевне, остаюсь навсегда преданный Вам беззаветно
Ваш В. Белинский.
СПб. 1843. Октября 2 дня.
236. M. В. Орловой