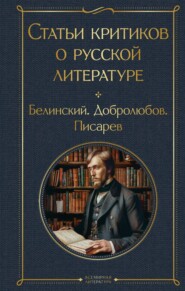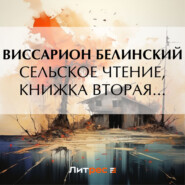По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма (1841–1848)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В. Б.
Доктор, содержащий водолечебное заведение, сказал мне, что я стражду биением сердца – я сам подозревал это, но не хотел поверить, т. е. видел, что 2 ? 2 = 4, а хотел поставить 25. Вода помогает мне – не знаю, что будет вперед.
Апреля 3
Наконец Галахов приехал, и я получил от него твои пять строк,[553 - Речь идет о записке Боткина к Белинскому об его увлечении Арманс (от конца марта 1843 г. – «Литер. мысль», II, 1923, стр. 183).] до того скверно написанные, что насилу мог я их разобрать. Ну, душа моя, поздравляю тебя: ты решительно сумасшедший, и тебе надо теперь вести свой дневник: что будут перед ним записки титулярного советника Попрыщина (он же и Фердинанд VII).[554 - Персонаж повести Гоголя «Записки сумасшедшего».] Как я горд перед тобою, сознавая себя в полном разуме, как презираю я тебя. Так бесплодная женщина смотрит на родильницу, а та думает себе: я больна, из меня течет и то и другое, зато у меня есть дитя! Странно устроено всё на белом свете! Любовь смешна и исполнена комизма по этой эгоистической сосредоточенности в себе самой и рассеянному равнодушию ко всему, что не она; но в этом-то и заключается весь рай ее, всё упоение. И если в чем человек, особенно русский человек, может найти хоть минутное счастие, так это, конечно, в любви, и уж, конечно, всего менее в российской словесности.
* * *
Прочел я статью твою о немецкой литературе. Славная статья! Она понравилась мне больше всех прежних твоих статей, может быть, потому, что ее содержание ближе к сердцу моему. Кр<аевский> читал мне о празднике фурьеристов – чудесно. Славно откатал ты эту гнилую филистерскую сосиску – Гуцкова. Вот так бы хотелось отделать свиную колбасу – Рётшера. Тургенев сказал, что статьи Рётшера отзываются процессом пищеварения, а я возразил: нет, испражнения. Не было человека пишущего, который бы так глубоко оскорбил меня своею пошлостию, как этот немецкий Шевырев. Если бы Рётшер нашел у Шекспира или Гёте драму, состоящую в том, что <…> прибили честную женщину, а полиция передрала бы за это <…>, – он так бы написал о ней: субстанциальное право <…>, оскорбленное субстанциальною стихиею честности, разрешилось в коллизию драки, которая, оскорбив субстанциальную власть полиции, была наказана розгами, после чего всё пришло в гармонию примирения. Рётшер в отношении к Гегелю есть тот человек в «Разъезде» Гоголя, который, подцепив у другого словечко «общественные раны», повторяет его, не понимая его значения.[555 - Белинский имеет в виду реплику «Господина В.» из «Театрального разъезда» Гоголя («…это уже некоторым образом наши общественные раны, которые нужно скрывать, а не показывать»). «Театральный разъезд» был опубликован в IV томе «Сочинений Гоголя» 1842 г.] Хорош был Гуцков у G. S – вот семинарист-то, сукин сын![556 - Речь идет о статье Боткина «Германская литература», в которой разбирается книга Карла Гуцкова «Письма из Парижа» («Briefe aus Paris, von Karl Gutzkow»). Лейпциг, 1842. В своей книге Гудков уделяет большое внимание Жорж Санд, сообщает о своем решении не посещать ее, чтобы не оскорбить навязчивым любопытством, но всё-таки попадает к ней и ведет пустейший разговор («Отеч. записки» 1843, № 4, отд. VII, стр. 35–64; без подписи).]
Когда я написал к тебе начало этого письма, то в тот же вечер сошелся у Комаришки[557 - А. С. Комаров. См. примеч. 12 к письму 188.] с Тургеневым и изъявил ему мое удивление, что В<арвара> А<лександровна> опять сошлась с своим мужем. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что Т<ургенев> смотрит на эту женщину так же, как и З<иновьев>. Слово за слово, и я узнал от него, что М<ишель> внутренне давно уже разошелся с нею, видя, что она его нисколько не понимает и только повторяет его слова. Наконец, дело дошло до того, что расстаться с нею сделалось для него необходимостию. А я так привык религиозно уважать эту женщину, это благоговение было передано мне Станкевичем. Все видели в ней феномен даже между Б<акунины>ми, которые все казались феноменами. Вот что говорит Тургенев о всех Б<акунины>х, и сестрах и братьях, за исключением одного М<ишеля>: все они созданы быть не чем другим, как несчастными. Натуры пламенные и порывистые, они лишены глубокого религиозного чувства, и потому всегда наклонны наполовину помириться и с самими собою и с действительностию на основании какого-нибудь морального чувствованьица или принципика; у них нет сил прямо смотреть в глаза чорту. Как хочешь, Боткин, а тут правды больше, чем во всех наших нападках на них. Темное чувство, бывало восстановлявшее нас против них, имело справедливое основание; но мы врали, ибо сами любили ставить 5, хотя и видели, что 2 ? 2 всего 4. Оттого и не могли добиться толку. Вообще я теперь больше всего думаю о характерах и значении близких и знакомых мне людей. Эта наука мне не далась: у меня, коли кто, бывало, прослезится от пакостных стишонков Клюшникова, тот уже и глубокая натура. Теперь я потерял даже смысл слова «глубокая натура» – так затаскал я его. Смешно вспомнить, как, приехав в Петербург, я думал в одном Языкове найти всё, что оставил в Москве, и дивился глубокости его натуры.[558 - О М. А. Языкове см. ИАН, т. XI, письмо 147.] А это просто добрая благородная натура, совершенно невинная в какой бы то ни было силе или глубокости. Для друзей он готов уверовать в какое угодно учение и будет наполовину невпопад повторять их слова, добродушно думая, что имеет свое убеждение, да еще глубокое. Его до слез тронет стихотворение Лермонтова – и он увидит образец красноречия в трех бессмысленнейших строках бессмысленнейшей статьи Шевырева. Духовного развития он чужд совершенно, и Клюшников напрасно толковал с ним[51 - Далее текст утерян.]… буфон довольно дурного тона, которым раз можно потешиться, но не более, как раз. Яз<ыков> видит в Булгакове[559 - Булгаков Константин Александрович (1812–1862), сын московского почт-директора, гвардейский офицер, славившийся своим остроумием; но характеристике В. А. Соллогуба, «гениальный повеса, прошутивший блистательные способности» (В. А. Соллогуб. Воспоминания. М. – Л., 1930, стр. 202). См. о нем в воспоминаниях А. Я. Панаевой и И. И. Панаева.] падшего ангела: угадал!
* * *
Пожалей о бедном папаше Кречетове: дня три-четыре назад тому с ним случился удар и воспаление в мозгу.[560 - О В. И. Кречетове см. письмо 192 и примеч. 9 к нему. – О болезни и выздоровлении Кречетова вспоминает Панаев (стр. 246–247). Впоследствии Панаев хлопотал о материальной помощи Кречетову (см. его письмо к В. Ф. Одоевскому от 21/IV 1846 г. – «Литер. мысль», II, 1923, стр. 193).] Яз<ыков> бросился к нему и без лекаря выпустил ему две тарелки крови. Бедняк безнадежен – в бреду, и бредит всё книжным языком и высоким слогом, с примесью comme ?a, comme ?i, mon cher[52 - так себе, мой милый (франц.). – Ред.] Виссарион и пр. Семейство должно идти по миру: трагедия и комедия. С удовольствием извещу тебя, что Панаев принял деятельное участие и занял, чтоб дать взаймы жене папаши, которая, разумеется, теперь без всяких средств.
* * *
Всё перечитываю статью твою – прелесть. Будь литература на Руси выражением общества, а следовательно, и потребностию его, будь хоть сколько-нибудь человеческая цензура – ты был бы лихим борзописцем, выучился бы писать скоро и бегло и написал бы горы. Без этого – голод, один голод научит писать скоро и много. Ты довольно обеспечен, чтоб не бояться голода, и потому считаешь себя неспособным к скоро и много писанию. К несчастию, судьба слишком развила во мне эту несчастную способность.
* * *
Сейчас кончил 1-ю часть истории Louis Blanc. Превосходное творение! Для меня оно было откровением. Луи Блан – святой человек – личность его возбудила во мне благоговейную любовь. Какое беспристрастие, благородство, достоинство, сколько поэзии в мыслях, какой язык![561 - Книга Луи Блана «История десяти лет» («Histoire de dix ans»), изданная в 1841–1844 гг., была воспринята современниками как обвинительный акт против Июльской монархии и диктатуры буржуазии во Франции. Опа вызвала большой интерес в кругу Белинского (см., например, дневник Герцена от лета 1843 г. – ПссГ, т. III, стр. 113–114 и 117–118) и оказала некоторое влияние на критика, что и отразилось на его статье о романе Э. Сю «Парижские тайны» (см. ИАН, т. VIII, а также ЛН, т. 56, 1950, стр. 221). Об увлечении Белинского идеями Луи Блана в 1843 г. вспоминал П. В. Анненков (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М. – Л., 1928, стр. 357). В 1847 г. Белинский изменил свое отношение к трудам Луи Блана (см. н. т., стр. 323 и 467.]
* * *
Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседа и споры с ним отводили мне душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всем соглашаются с тобою, или если противоречат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктом, – и отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры. У Т<ургенева> много юмору. Я, кажется, уже писал тебе, что раз, в споре против меня за немцев, он сказал мне: да что ваш русский человек, который не только шапку, да и мозг-то свой носит набекрень! Вообще Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность. Он враг всего неопределенного, к чему я, по слабости характера и неопределенности натуры и дурного развития, довольно падок. У Комаришки висят портреты актрис и певиц парижских. Мне понравилась одна выражением неопределенной вдумчивости в лице; а другая не поправилась немножко <…> выражением. «Вы, я замечаю (сказал мне Т<ургенев>), любите женщин с неопределенным выражением, что в них толку? Вот эта – другое дело: я вижу, что это женщина неглупая и страстная, и знаю, с кем имею дело; а та – какой-то субстанциальный пирог». А ведь похоже на правду, Б<откин>?
* * *
По обыкновению я весь промотавшись, и потому замышляю подняться на аферы. Некрасов на это – золотой человек. Думаем смастерить популярную мифологию.[562 - Замысел этот осуществлен не был.] Не знаешь ли какой-нибудь немецкой книжонки попроще – мы бы уж перевели ее. И не можешь ли сам чем помочь нам? – А каково сочинение нашего Кульчика-Ремизова о преферансе?[563 - А. Я. Кульчицкий выпустил в свет шутливую брошюру «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс, заимствованные у разных древних и новейших писателей и приведенные в систему кандидатом философии П. Ремизовым». СПб., 1843 (текст ее перепечатан Н. О. Лернером в PC 1908, № 4, стр. 200–210). Белинский откликнулся на шутку Кульчицкого рецензией в № 4 «Отеч. записок» 1843 г. (см. ИАН, т. VII, № 9 и примеч. к ней).] – Языкова ты увидишь дня через три по получении этого письма – смотри же, не проговорись ему. Посылаю тебе пародию на «Братьев разбойников»; пожалуйста, распространи ее по Москве.[564 - Речь идет о «Братьях журналистах», пародии Н. И. Куликова на «Братьев разбойников» Пушкина; действующие лица в ней Булгарин и Греч (см. PC 1885, № 2, стр. 471–473). О чтении этой пародии Белинским рассказывал П. А. Плетнев Я. К. Гроту в письме от 20 марта 1843 г. («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. II. СПб., 1806, стр. 38).] Впрочем, для этого тебе стоит только дать ее Кетчеру. Кстати: скажи Кетчеру, что Ратьков[565 - Ратьков Петр Алексеевич, петербургский книгопродавец, бывший приказчик Н. А. Полевого.] не выдает подписчикам последних выпусков Шекспира, говоря, что не получил их. Да что же ты не шлешь Прокоповичу денег за Гоголя; напомни также М. С. Щепкину (которому жму руку крепко-накрепко), чтобы и он выслал Прок<оповичу> 25 р. за переписку «Женитьбы» и «Игроков».
Пародия на «Братьев разбойников» напомнила мне оригинал: какая детская мелодрама и как жиденьки и легоньки первые поэмы Пушкина до «Цыган».[566 - В шестой статье «Сочинения Александра Пушкина» Белинский повторил эту оценку поэмы (см. ИАН, т. VII, стр. 383).] – Слышал я, что Грановский дал Погодину статью:[567 - В четвертой книжке «Москвитянина» 1843 г. (в отд. «История», стр. 441–463), Т. Н. Грановский поместил рецензию на две книги: «Geschiehte des Preussischen Staats von G. A. Stenzel» («История прусского государства Г. А. Штенцеля»). Гамбург, т. I–III, 1830–1841 и «Geschithte Deutschlands von 1806–1830 von Fr. B?lau» («История Германии с 1806 по 1830 г.» Фр. Бюлау). Гамбург, 1842.] может быть, он (Гр<ановский>) и хорошо сделал, только я этого не понимаю; впрочем, у всякого свой образ мыслей, и у нас в Петербурге многие литераторы не гнушаются печататься в «Пчеле» и «Маяке» – почему же московским гнушаться печататься в «Москвитянине»: ведь «Москвитянин» немногим чем глупее и подлее «Пчелы» и «Маяка».
Кланяйся всем нашим. Прощай. Если немножко придешь в рассудок, то вспомни меня и напиши что-нибудь. Впрочем, желая тебе счастия, желаю подольше быть дураком. Прощай.
Твой В. Б.
216. В. П. Боткину
СПб. 1843, апреля 17
Спасибо тебе, добрый мой Б<откин>, за письмо твое.[568 - Это письмо не сохранилось.] Оно доставило мне какое-то грустное упоение счастия. Оно было так неожиданно, и притом – быть понятым в своем глубочайшем страдании, о котором смешно было бы и толковать тем, которые сами не видят его – это лучшее и священнейшее, что только может дать дружба. Только ты несколько преувеличил дело, а потому немного и устыдил меня. К стыду моему, я должен сознаться, что чужое счастие глубоко и страдательно потрясает меня; но это только при первом известии о нем. Потом я уже смотрю на него, как на что-то такое, что в порядке вещей, интересуюсь им, люблю его. Теперь мне малейшая подробность твоей истории интересна и займет меня живо и приятно. И потому – пиши, пиши и пиши. Не знаю, я ли не совсем понимаю твое положение, или ты сам не совсем понимаешь его, – только тут есть что-то не так. Мне кажется, что ты сам себе не смеешь признаться в важности этого события и как будто стараешься смотреть на него как можно умереннее и легче, – осторожность сердца, много раз обманутого, ума, искушенного опытом и измученного сомнением! Есть два рода любви. То, что мы называем любовью романтическою, мистическою, фантастическою, – это цвет юности и болезнь натур внутренних: в этой любви любишь не предмет любви, а свою любовь, с мистикою ее ощущений. Эта любовь прекрасна и благоуханна, как цветок весенний, и, подобно ему, скоро вянет. Отличительный характер любви действительной (в которой мы чувствуем потребность, когда уже жизнь порядочно поистреплет нас) состоит в том, что любишь предмет любви, а не любовь свою. Присутствие любимого существа тут дарит тебя не восторгами, а кротким чувством удовлетворения – тебе хорошо и легко – больше ничего; его радость радует тебя больше твоей радости, его печаль тревожит тебя больше твоей печали. В романтической любви ты только больше уходишь в себя, думая совсем выйти из себя, и в основе ее и в проявлении ее – капризный поэтический эгоизм. В любви действительной ты – человек, и я понимаю, что ты сказал не фразу, говоря, что уступил бы мне Armance), чтоб только видеть меня счастливым. Во время истории твоей с А<лександрой> А<лександровной> ты не стыдился передо мною своего счастия, и если бы тебе тогда пришла в голову мысль о подобной уступке – это был <бы> порыв натянутого великодушия, в основе его лежало бы самолюбие, жадное рыцарских подвигов как права на самоосклабление. Ты пишешь, что глубоко дорожишь этою девушкою и ее к тебе склонностию: это значит, что ты любишь ее, а не любовь свою, следовательно, любишь просто, и точка отправления чувства твоего есть ее личность, а всё, что есть прекрасного в ней, служит не предлогом к твоему чувству, а только оправданием его разумности. Ты говоришь, что она не хороша собою: это, по мне, тоже хороший признак, если ты, в котором так развито чувство красоты и который так эстетически сладострастен и развратен, если ты мог полюбить не красоту, а душу в лице женщины, то ты дурак, если не понимаешь, что «счастье так возможно, так близко».[569 - Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 8, строфа XLVII).] Ты говоришь, что чувствуешь в себе силу оторваться от этой девушки и что поэтому это не любовь, а склонность. Не знаю, может быть, оно и так – трудно судить безошибочно о таких важных вопросах жизни; но пока мне всё кажется, что отказаться от истинного чувства легче, чем от фантастического; но зато в первом случае мы теряем счастие на всю жизнь, а во 2-м только на время сходим с ума. Ты говоришь, что желал бы иметь дитя от нее и что заранее любишь его до безумия: дурак, дурак, с длинной бородою укоротился ум твой! Но, впрочем – я скептик, и, может быть, оно и так – т. е., может быть, ты и прав – это не любовь, а склонность; но всё-таки напомню тебе, вместо рассуждений и споров, о тоске одинокой жизни, о болезненности и брюзгливости старого холостяка и о ядовитой грусти и жгучем раскаянии, с коими иные люди повторяют стих из «Онегина»:
А счастье было так возможно,
Так близко!.
* * *-
Журнал губит меня. Здоровье мое с каждым днем ремизится, и в душу вкрадывается грустное предчувствие, что я скоро останусь без шести в сюрах, т. е. отправлюсь туда, куда страх как не хочется идти. Жизнь ничего мне не дала, но люблю жизнь; смерть сулит мне вечный покой, но не люблю смерти. Не упрекаю себя за малодушие – такая натура моя, и в ее любви к жизни я вижу живое начало. Вода сначала только помогала мне немного, а потом сделалось мне хуже. Лучше всех лекарств и вод на меня подействовал бы отдых и удовольствие. Вот почему мне нужно приехать в Москву, к тебе, месяца на два с половиною или больше.[570 - Проект Белинского о поездке в Москву и в Премухино осуществился в мае 1843 г. (см. письма 220 и 221).] Я смотрю на эту поездку, как на меру спасения от верной смерти или неизбежной жестокой болезни, от которой надо будет медленно исчахнуть. Если зимняя поездка в Москву, продолжившаяся с проездом взад и вперед каких-нибудь 3 недели, оживила меня и физически и нравственно, то как же должен я поправиться, проведя лето вдали от чухонских болот, без труда и заботы, с тобою вместе? О, да я воскрес бы! Меня оживляет одна мысль об этом. Добрый Некрасов взялся хлопотать достать мне денег или у книгопродавца на подряд работы, или взаймы на вексель. Надежда на это плоха, но умирающий любит надеяться. Если б это сбылось – я бы сказал директору,[571 - А. А. Краевскому.] что он может вычесть мое жалованье за эти месяцы, и – пожелал бы ему «счастливо оставаться». Заехал бы на недельку в Прямухино, а там к тебе, к тебе! Как бы я рад был увидеть твою Arm – люблю ее, как сестру.
Если бы Некрасов достал мне денег, я бы принялся за работу с жаром и к числу 20 мая был бы свободен, а в последних числах мая или самых первых июня инсталлировался[572 - От франц. installer – водворять, помещать.] в комнате Николая Петровича.[573 - Второй из братьев Боткиных.] Боже мой, неужели и о таком счастии я не должен сметь мечтать!
Прощай.
Твой В. Б.
217. И. С. Тургеневу
<Около 20 апреля 1843 г. Петербург.>
Прощайте, любезнейший Иван Сергеевич! Очень жалею, что не удалось в последний раз побеседовать с Вами. Ваша беседа всегда отводила мне душу, и, лишаясь ее на некоторое время, я тем живее чувствую ее цену. Будьте добры и, по обещанию Вашему, доставьте эти тетради по надписанию. В письме к Бакунину запечатано – что бы Вы думали? – книжка о преферансе.[574 - Письмо Белинского к Н. А. Бакунину не сохранилось. – О посылаемой книжке см. письмо 215 и примеч. 20 к нему.] Это для стариков,[575 - А. М. и В. А. Бакунины. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 96.] – пусть посмеются. Прощайте.
Ваш В. Б.
218. В. П. Боткину
СПб. 1843, апреля 30
Хотел было написать к тебе, Б<откин>, длинное послание, но, увлекшись письмом к Г<ерцену>, потерял время,[576 - Это письмо Белинского к Герцену не сохранилось.] а А<ндрей> А<лександрович>[577 - А. А. Краевский.] сейчас ждет меня. Не знаю, получил ли ты письмо мое, в котором я говорил о необходимости и надежде прожить у тебя лето.[578 - Имеется в виду письмо 216.] План не удался, т. е. Некрасов денег достать не мог, а потому надо издыхать и отчаиваться в Петербурге, на его болотах. Слушал я третьего дня Рубинга (в «Лючии Ламмермур»)[579 - Рубини Джиованни Батиста (1795–1854), итальянский тенор, выступавший в Петербургской итальянской опере. – «Лючия Ламмермур» – опера Доницетти.] – страшный художник – и в третьем акте я плакал слезами, которыми давно уже не плакал. Сегодня опять еду слушать ту же оперу. Сцена, где он срывает кольца с Лючии и призывает небо в свидетели ее вероломства – страшна, ужасна, – я вспомнил Мочалова и понял, что все искусства имеют одни законы. Боже мой, что это за рыдающий голос – столько чувства, такая огненная лава чувства – да от этого можно с ума сойти. С И. Д. Бартеневым[580 - См. письмо 199 и примеч. 19 к нему.] давно не вижусь: кажется, мы оба поняли, что не созданы видеться друг с другом. Скучнейший в мире человек. Умен, благороден, но самолюбив до комизма. Раз я начал хвалить Перовского[581 - Перовский Лев Алексеевич (1792–1856), министр внутренних дел (1841–1852).] и говорить о его значении для России: «Да, да, говоря собственно по отношению ко мне, он очень хорош ко мне». Жалок, ничего не понимает, отстал – последнее я выговорил ему, и это было очень не по сердцу.
Прощай и пиши ко мне, бога ради. Умираю всеми смертями» Теперь хочу лечиться у Завадского[582 - Завадский-Краснопольский Степан Павлович (1803–1869), доктор медицины.] – посылает на дачу, а что за дачи в Петербурге?
В. Б.
219. В. П. Боткину
<10–11 мая 1843 г. Петербург.>
СПб. 1843, 10 мая
Наконец-то ты откликнулся, Б<откин>. Я писал к тебе длинное, предлинное письмо, каждый день прибавляя к нему по нескольку строк.[583 - Письма эти не сохранились.] Сейчас думал засесть за него, по обыкновению ежеминутно ожидая письма от тебя – и вдруг – оно! И потому длинное письмо мое останется без конца, чему я и рад. Спешу прежде всего сказать тебе мое прямое, честнее и беспристрастное мнение о важном для тебя вопросе. Не забывай, что это не более, как мое личное мнение, которое, может быть, и неверно и даже пристрастно как выражение моей личности, а всякая личность столько же есть ложь, сколько и истина. Итак, слушай. Понимаю причины, заставляющие тебя страстно желать поездки в Европу, оправдываю их, если хочешь; но всё это уничтожается в моем уме, сердце, во всем существе моем твоими словами: «Да и есть что-то неблагородное, найдя девушку умную, нежную, с глубоко эстетическою душою, девушку, которая любит меня с преданностию и самою нежною искренностию, – пробудив ее любовь к себе, – вдруг оставить ее на год, оставить ее без действительного соединения с нею, зная и любя ее только внешним образом, – оставить ее на скорбное одиночество сердца». Б<откин>, женщина есть нечто, и, если в ней есть сердце, ее сердце есть еще более нечто: знаешь ли что, по твоему колебанию Arm имеет право думать, что ты недостаточно любишь ее. Если это так, мне жаль обоих вас, и если это так, то ты сам поймешь, как мудрено и страшно решиться мне моим мнением склонить весы твоего решения на ту или другую сторону. Хорошо поехать за границу, хорошо сделать и то и другое, но лучше всего поступить честно и гуманно. Ведь это еще не сущность честности, не высшая степень ее – взять у человека последние деньги и отдать их с собственною гибелью: взять у человека душу, сердце, счастие и честно сберечь их – вот высшая честность, ибо деньги еще возвратимое дело, а разбитое сердце слабого существа, которому общество отказывает даже в праве жаловаться на несчастие, – это дело ничем не поправимое. Притом же, если эта женщина может дать тебе счастие, – то недостоин ты этого счастия, если сам откажешься от него, может быть, для мечты. В любви нет полного удовлетворения – это правда, и жалок был бы человек, если бы он мог найти полное удовлетворение в любви; но из этого отнюдь не следует, чтобы что-нибудь было выше любви: из этого следует только, что ничто одно не может удовлетворить многих потребностей человека. Но вот какое значение имеет в жизни мужчины преданная ему женщина: друг наш, Г<е>рц<е>н, очень счастливо женат, но мы не полюбили бы его, если бы он от этого был не только вполне счастлив, но даже и просто счастлив; однако ж он всё-таки счастливее всех нас. У нас нет ничего ни впереди, ни позади, – жизнь для нас – постылая жена, которую мы ненавидим, но с которою расстаться не имеем права; а у него есть живая связь с жизнию – это его жена. Тяжело тебе, Б<откин>, жить и теперь, но подумай, что из тебя будет в 40 лет – ведь страшно подумать об этом. Поездка за границу освежит тебя на время, но тем тяжелее будет тебе жить после этого краткого оживления. А останься ты – может быть, найдешь то, что нашел Г<ерцен> в жизни, а для этого – чорт побери и восток и запад. Заметь, – я пишу может быть и подчеркиваю эти слова, чтобы ты видел, что я не фантазирую и желания не принимаю за одно с свершением – я ведь тоже умею сомневаться больше, чем обольщаться надеждою. Сверх того, в жизни человека есть фатум, и простые люди справедливы, боясь суеверно идти против судьбы. Я бы на твоем месте встречу с Arm принял за веление провидения не ехать. Да и как тебе ехать – ты раздвоен, удовольствие твоей поездки будет отравлено, а потому и пользы не выйдет. Может быть, у тебя есть мысль, что ведь это только на год, что ты воротишься и всё пойдет попрежнему; не знаю, может оно и так, но я не верю жизни и убежден, что чем более она сулит человеку, тем более требует, чтобы он ценил это, а иначе – разманит, да и покажет шиш; вот, мол, тебе дураку, коли не умел воспользоваться. Еще если бы в твоих отношениях к Arm было что-нибудь определенное, положительное – тогда бы другое дело; а то с какою надеждою оставишь ты бедное, преданное тебе существо, что будет для нее залогом, что ты не изменишься, что возвратишься к ней тем же, каким и был? Скажу тебе более – ибо ты требуешь моего мнения: думая о твоей нерешительности в таком простом, по моему мнению, вопросе, я убеждаюсь, что ты недостоин счастия быть любимым женщиною и что потому-то ты и любим… Нет, если бы меня любила горничная, которая была бы так ниже моих потребностей, что не могла бы занять меня более двух месяцев, но если бы она была привязана ко мне искренно и я знал бы, что разрыв с нею стоил бы ей горьких, хотя и непродолжительных, слез, – о пусть лучше не узнаю я, что такое и минутное забвение, на чувственности основанное, чем испытать такое положение. Может быть, это происходит от врожденного мне прекраснодушия, слабости характера и диких особенностей моей нелепой натуры; но я таков, а ты ведь требовал моего мнения, в котором я был бы самим собою. Прибавлю еще и вот что: понимаю всю прекрасную сторону поездки за границу – понимаю ее так же глубоко, как и ты; но не думаю, чтобы из-за нее стоило рисковать тем, что может повлечь за собою или сознание утраты предоставлявшегося счастия, или – что еще хуже – вечное раскаяние в разбитом сердце женщины.
Есть одно, чему можно пожертвовать женщиною и иметь право разбить ее сердце – это долг; но едва ли можно видеть долг в поездке за границу; тогда как отношения твои к Arm, которые ты один создал, суть без всякого сомнения долг, в котором гораздо более определенного и положительного, чем в первом. Вот всё, что могу сказать я об этом предмете; коли увидимся, скажу более, а пока более нечего говорить.
Отвечай мне немедленно. Сегодня (понедельник 10 мая) получил я письмо твое, сейчас же написал ответ, а завтра (11 мая) оно пойдет к тебе. Сделай и ты так. Пиши ко мне просто и коротко о своем решении в ту или другую сторону, не говоря о причинах. Моя поездка в Москву зависит от твоего решения. Пиша к тебе о моем страстном желании ехать на лето в Москву, – я, признаюсь, имел надежду на твою помощь. Просить прямо я не хотел, ибо знал, что, если можно, ты сам сделаешь; а что я просил косвенно, в этом не каюсь и этого не стыжусь: дело шло не об удовольствии, а, может быть, о спасении моей жизни. Я болен и крепко болен; душа моя угнетена трудом, заботою и тоскою – мне нужен отдых, свобода, бездействие, удовольствие (которого я не помню с последней поездки моей в Москву). Если ты остаешься и не едешь за границу – я еду в Москву и могу выехать числа 26–27 мая. Ты думаешь сам приехать – оно хорошо, да ведь мне нужны твои деньги, и тебе на проезд взад и вперед нужны деньги – стало быть, вдвойне: подумал ли ты об этом? Теперь, сколько мне нужно денег? Вот об этом тяжело и говорить. 40 руб. серебром нужно за дилижанс взад и вперед; но как на обоих путях (или по крайней мере на первом) мне непременно нужно заехать в Прямухино, то выйдет и больше. 10 руб. серебром только что станет на издержки в пути. Впрочем, я напрасно считаю вдвойне – на первый случай нужно тебе выслать столько, чтобы я в Москву мог приехать. 100 р. асс. надо будет внести за квартиру, иначе хозяин не пустит. Рублей 200, по крайней мере, нужно на долги в Петербурге и кое-какие приготовления. Остальное сам знаешь, сколько нужно для проезда. Много, много надо: подумай, а подумавши, скажи прямо и искренно – ведь это деньги, а отдам-то я тебе их бог знает когда. Разумеется, хотя в Москве мне и нечего будет тратиться, живя на всем на готовом; но все же нельзя будет жить и без каких-нибудь денег. А у меня своих к отъезду останется разве гривенника три, да и то вряд ли. Подумай и отвечай немедленно. Человека я отпущу, квартиру поручу Левушке Краевского. Прощай. Отвечай же скорее – по пальцам буду считать дни и минуты получения твоего ответа.
Вторник, 11 мая
Отправляя сейчас письмо это на почту, не могу еще не прибавить несколько слов. Я показывал письмо твое П<анае>ву; я думал, что он объявит себя за поездку против женщины; но он объявил себя согласно со мною и вполне согласился со мною, что не понимает, как можно колебаться в таком случае. Трудно быть судьею чужого дела, но по зрелом соображении (ибо я беспрестанно думаю всё о тебе) более и более убеждаюсь, что я прав. Насчет контракта, кажется, нечего и хлопотать – он, к несчастию, ненарушим. Впрочем, надо знать все подробности и условия. Это неприятно, но против твердой воли ничто не устоит.
Мысль, что я еду в Москву, носится в моей голове, как приятный сон. Я только тогда уверюсь в ее действительности, когда петербургская застава исчезнет из виду, и, как узник, почуявший свободу, глубоко, вольно и радостно дохну я свежим воздухом полей.
Если будешь высылать деньги, то высылай на имя Краевского, а отнюдь не на мое.
Прощай. Письмо это получишь ты в пятницу (14 мая), а в субботу посылай ответ, чтобы я получил его во вторник.
Доктор, содержащий водолечебное заведение, сказал мне, что я стражду биением сердца – я сам подозревал это, но не хотел поверить, т. е. видел, что 2 ? 2 = 4, а хотел поставить 25. Вода помогает мне – не знаю, что будет вперед.
Апреля 3
Наконец Галахов приехал, и я получил от него твои пять строк,[553 - Речь идет о записке Боткина к Белинскому об его увлечении Арманс (от конца марта 1843 г. – «Литер. мысль», II, 1923, стр. 183).] до того скверно написанные, что насилу мог я их разобрать. Ну, душа моя, поздравляю тебя: ты решительно сумасшедший, и тебе надо теперь вести свой дневник: что будут перед ним записки титулярного советника Попрыщина (он же и Фердинанд VII).[554 - Персонаж повести Гоголя «Записки сумасшедшего».] Как я горд перед тобою, сознавая себя в полном разуме, как презираю я тебя. Так бесплодная женщина смотрит на родильницу, а та думает себе: я больна, из меня течет и то и другое, зато у меня есть дитя! Странно устроено всё на белом свете! Любовь смешна и исполнена комизма по этой эгоистической сосредоточенности в себе самой и рассеянному равнодушию ко всему, что не она; но в этом-то и заключается весь рай ее, всё упоение. И если в чем человек, особенно русский человек, может найти хоть минутное счастие, так это, конечно, в любви, и уж, конечно, всего менее в российской словесности.
* * *
Прочел я статью твою о немецкой литературе. Славная статья! Она понравилась мне больше всех прежних твоих статей, может быть, потому, что ее содержание ближе к сердцу моему. Кр<аевский> читал мне о празднике фурьеристов – чудесно. Славно откатал ты эту гнилую филистерскую сосиску – Гуцкова. Вот так бы хотелось отделать свиную колбасу – Рётшера. Тургенев сказал, что статьи Рётшера отзываются процессом пищеварения, а я возразил: нет, испражнения. Не было человека пишущего, который бы так глубоко оскорбил меня своею пошлостию, как этот немецкий Шевырев. Если бы Рётшер нашел у Шекспира или Гёте драму, состоящую в том, что <…> прибили честную женщину, а полиция передрала бы за это <…>, – он так бы написал о ней: субстанциальное право <…>, оскорбленное субстанциальною стихиею честности, разрешилось в коллизию драки, которая, оскорбив субстанциальную власть полиции, была наказана розгами, после чего всё пришло в гармонию примирения. Рётшер в отношении к Гегелю есть тот человек в «Разъезде» Гоголя, который, подцепив у другого словечко «общественные раны», повторяет его, не понимая его значения.[555 - Белинский имеет в виду реплику «Господина В.» из «Театрального разъезда» Гоголя («…это уже некоторым образом наши общественные раны, которые нужно скрывать, а не показывать»). «Театральный разъезд» был опубликован в IV томе «Сочинений Гоголя» 1842 г.] Хорош был Гуцков у G. S – вот семинарист-то, сукин сын![556 - Речь идет о статье Боткина «Германская литература», в которой разбирается книга Карла Гуцкова «Письма из Парижа» («Briefe aus Paris, von Karl Gutzkow»). Лейпциг, 1842. В своей книге Гудков уделяет большое внимание Жорж Санд, сообщает о своем решении не посещать ее, чтобы не оскорбить навязчивым любопытством, но всё-таки попадает к ней и ведет пустейший разговор («Отеч. записки» 1843, № 4, отд. VII, стр. 35–64; без подписи).]
Когда я написал к тебе начало этого письма, то в тот же вечер сошелся у Комаришки[557 - А. С. Комаров. См. примеч. 12 к письму 188.] с Тургеневым и изъявил ему мое удивление, что В<арвара> А<лександровна> опять сошлась с своим мужем. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что Т<ургенев> смотрит на эту женщину так же, как и З<иновьев>. Слово за слово, и я узнал от него, что М<ишель> внутренне давно уже разошелся с нею, видя, что она его нисколько не понимает и только повторяет его слова. Наконец, дело дошло до того, что расстаться с нею сделалось для него необходимостию. А я так привык религиозно уважать эту женщину, это благоговение было передано мне Станкевичем. Все видели в ней феномен даже между Б<акунины>ми, которые все казались феноменами. Вот что говорит Тургенев о всех Б<акунины>х, и сестрах и братьях, за исключением одного М<ишеля>: все они созданы быть не чем другим, как несчастными. Натуры пламенные и порывистые, они лишены глубокого религиозного чувства, и потому всегда наклонны наполовину помириться и с самими собою и с действительностию на основании какого-нибудь морального чувствованьица или принципика; у них нет сил прямо смотреть в глаза чорту. Как хочешь, Боткин, а тут правды больше, чем во всех наших нападках на них. Темное чувство, бывало восстановлявшее нас против них, имело справедливое основание; но мы врали, ибо сами любили ставить 5, хотя и видели, что 2 ? 2 всего 4. Оттого и не могли добиться толку. Вообще я теперь больше всего думаю о характерах и значении близких и знакомых мне людей. Эта наука мне не далась: у меня, коли кто, бывало, прослезится от пакостных стишонков Клюшникова, тот уже и глубокая натура. Теперь я потерял даже смысл слова «глубокая натура» – так затаскал я его. Смешно вспомнить, как, приехав в Петербург, я думал в одном Языкове найти всё, что оставил в Москве, и дивился глубокости его натуры.[558 - О М. А. Языкове см. ИАН, т. XI, письмо 147.] А это просто добрая благородная натура, совершенно невинная в какой бы то ни было силе или глубокости. Для друзей он готов уверовать в какое угодно учение и будет наполовину невпопад повторять их слова, добродушно думая, что имеет свое убеждение, да еще глубокое. Его до слез тронет стихотворение Лермонтова – и он увидит образец красноречия в трех бессмысленнейших строках бессмысленнейшей статьи Шевырева. Духовного развития он чужд совершенно, и Клюшников напрасно толковал с ним[51 - Далее текст утерян.]… буфон довольно дурного тона, которым раз можно потешиться, но не более, как раз. Яз<ыков> видит в Булгакове[559 - Булгаков Константин Александрович (1812–1862), сын московского почт-директора, гвардейский офицер, славившийся своим остроумием; но характеристике В. А. Соллогуба, «гениальный повеса, прошутивший блистательные способности» (В. А. Соллогуб. Воспоминания. М. – Л., 1930, стр. 202). См. о нем в воспоминаниях А. Я. Панаевой и И. И. Панаева.] падшего ангела: угадал!
* * *
Пожалей о бедном папаше Кречетове: дня три-четыре назад тому с ним случился удар и воспаление в мозгу.[560 - О В. И. Кречетове см. письмо 192 и примеч. 9 к нему. – О болезни и выздоровлении Кречетова вспоминает Панаев (стр. 246–247). Впоследствии Панаев хлопотал о материальной помощи Кречетову (см. его письмо к В. Ф. Одоевскому от 21/IV 1846 г. – «Литер. мысль», II, 1923, стр. 193).] Яз<ыков> бросился к нему и без лекаря выпустил ему две тарелки крови. Бедняк безнадежен – в бреду, и бредит всё книжным языком и высоким слогом, с примесью comme ?a, comme ?i, mon cher[52 - так себе, мой милый (франц.). – Ред.] Виссарион и пр. Семейство должно идти по миру: трагедия и комедия. С удовольствием извещу тебя, что Панаев принял деятельное участие и занял, чтоб дать взаймы жене папаши, которая, разумеется, теперь без всяких средств.
* * *
Всё перечитываю статью твою – прелесть. Будь литература на Руси выражением общества, а следовательно, и потребностию его, будь хоть сколько-нибудь человеческая цензура – ты был бы лихим борзописцем, выучился бы писать скоро и бегло и написал бы горы. Без этого – голод, один голод научит писать скоро и много. Ты довольно обеспечен, чтоб не бояться голода, и потому считаешь себя неспособным к скоро и много писанию. К несчастию, судьба слишком развила во мне эту несчастную способность.
* * *
Сейчас кончил 1-ю часть истории Louis Blanc. Превосходное творение! Для меня оно было откровением. Луи Блан – святой человек – личность его возбудила во мне благоговейную любовь. Какое беспристрастие, благородство, достоинство, сколько поэзии в мыслях, какой язык![561 - Книга Луи Блана «История десяти лет» («Histoire de dix ans»), изданная в 1841–1844 гг., была воспринята современниками как обвинительный акт против Июльской монархии и диктатуры буржуазии во Франции. Опа вызвала большой интерес в кругу Белинского (см., например, дневник Герцена от лета 1843 г. – ПссГ, т. III, стр. 113–114 и 117–118) и оказала некоторое влияние на критика, что и отразилось на его статье о романе Э. Сю «Парижские тайны» (см. ИАН, т. VIII, а также ЛН, т. 56, 1950, стр. 221). Об увлечении Белинского идеями Луи Блана в 1843 г. вспоминал П. В. Анненков (П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М. – Л., 1928, стр. 357). В 1847 г. Белинский изменил свое отношение к трудам Луи Блана (см. н. т., стр. 323 и 467.]
* * *
Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседа и споры с ним отводили мне душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всем соглашаются с тобою, или если противоречат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктом, – и отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры. У Т<ургенева> много юмору. Я, кажется, уже писал тебе, что раз, в споре против меня за немцев, он сказал мне: да что ваш русский человек, который не только шапку, да и мозг-то свой носит набекрень! Вообще Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность. Он враг всего неопределенного, к чему я, по слабости характера и неопределенности натуры и дурного развития, довольно падок. У Комаришки висят портреты актрис и певиц парижских. Мне понравилась одна выражением неопределенной вдумчивости в лице; а другая не поправилась немножко <…> выражением. «Вы, я замечаю (сказал мне Т<ургенев>), любите женщин с неопределенным выражением, что в них толку? Вот эта – другое дело: я вижу, что это женщина неглупая и страстная, и знаю, с кем имею дело; а та – какой-то субстанциальный пирог». А ведь похоже на правду, Б<откин>?
* * *
По обыкновению я весь промотавшись, и потому замышляю подняться на аферы. Некрасов на это – золотой человек. Думаем смастерить популярную мифологию.[562 - Замысел этот осуществлен не был.] Не знаешь ли какой-нибудь немецкой книжонки попроще – мы бы уж перевели ее. И не можешь ли сам чем помочь нам? – А каково сочинение нашего Кульчика-Ремизова о преферансе?[563 - А. Я. Кульчицкий выпустил в свет шутливую брошюру «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс, заимствованные у разных древних и новейших писателей и приведенные в систему кандидатом философии П. Ремизовым». СПб., 1843 (текст ее перепечатан Н. О. Лернером в PC 1908, № 4, стр. 200–210). Белинский откликнулся на шутку Кульчицкого рецензией в № 4 «Отеч. записок» 1843 г. (см. ИАН, т. VII, № 9 и примеч. к ней).] – Языкова ты увидишь дня через три по получении этого письма – смотри же, не проговорись ему. Посылаю тебе пародию на «Братьев разбойников»; пожалуйста, распространи ее по Москве.[564 - Речь идет о «Братьях журналистах», пародии Н. И. Куликова на «Братьев разбойников» Пушкина; действующие лица в ней Булгарин и Греч (см. PC 1885, № 2, стр. 471–473). О чтении этой пародии Белинским рассказывал П. А. Плетнев Я. К. Гроту в письме от 20 марта 1843 г. («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. II. СПб., 1806, стр. 38).] Впрочем, для этого тебе стоит только дать ее Кетчеру. Кстати: скажи Кетчеру, что Ратьков[565 - Ратьков Петр Алексеевич, петербургский книгопродавец, бывший приказчик Н. А. Полевого.] не выдает подписчикам последних выпусков Шекспира, говоря, что не получил их. Да что же ты не шлешь Прокоповичу денег за Гоголя; напомни также М. С. Щепкину (которому жму руку крепко-накрепко), чтобы и он выслал Прок<оповичу> 25 р. за переписку «Женитьбы» и «Игроков».
Пародия на «Братьев разбойников» напомнила мне оригинал: какая детская мелодрама и как жиденьки и легоньки первые поэмы Пушкина до «Цыган».[566 - В шестой статье «Сочинения Александра Пушкина» Белинский повторил эту оценку поэмы (см. ИАН, т. VII, стр. 383).] – Слышал я, что Грановский дал Погодину статью:[567 - В четвертой книжке «Москвитянина» 1843 г. (в отд. «История», стр. 441–463), Т. Н. Грановский поместил рецензию на две книги: «Geschiehte des Preussischen Staats von G. A. Stenzel» («История прусского государства Г. А. Штенцеля»). Гамбург, т. I–III, 1830–1841 и «Geschithte Deutschlands von 1806–1830 von Fr. B?lau» («История Германии с 1806 по 1830 г.» Фр. Бюлау). Гамбург, 1842.] может быть, он (Гр<ановский>) и хорошо сделал, только я этого не понимаю; впрочем, у всякого свой образ мыслей, и у нас в Петербурге многие литераторы не гнушаются печататься в «Пчеле» и «Маяке» – почему же московским гнушаться печататься в «Москвитянине»: ведь «Москвитянин» немногим чем глупее и подлее «Пчелы» и «Маяка».
Кланяйся всем нашим. Прощай. Если немножко придешь в рассудок, то вспомни меня и напиши что-нибудь. Впрочем, желая тебе счастия, желаю подольше быть дураком. Прощай.
Твой В. Б.
216. В. П. Боткину
СПб. 1843, апреля 17
Спасибо тебе, добрый мой Б<откин>, за письмо твое.[568 - Это письмо не сохранилось.] Оно доставило мне какое-то грустное упоение счастия. Оно было так неожиданно, и притом – быть понятым в своем глубочайшем страдании, о котором смешно было бы и толковать тем, которые сами не видят его – это лучшее и священнейшее, что только может дать дружба. Только ты несколько преувеличил дело, а потому немного и устыдил меня. К стыду моему, я должен сознаться, что чужое счастие глубоко и страдательно потрясает меня; но это только при первом известии о нем. Потом я уже смотрю на него, как на что-то такое, что в порядке вещей, интересуюсь им, люблю его. Теперь мне малейшая подробность твоей истории интересна и займет меня живо и приятно. И потому – пиши, пиши и пиши. Не знаю, я ли не совсем понимаю твое положение, или ты сам не совсем понимаешь его, – только тут есть что-то не так. Мне кажется, что ты сам себе не смеешь признаться в важности этого события и как будто стараешься смотреть на него как можно умереннее и легче, – осторожность сердца, много раз обманутого, ума, искушенного опытом и измученного сомнением! Есть два рода любви. То, что мы называем любовью романтическою, мистическою, фантастическою, – это цвет юности и болезнь натур внутренних: в этой любви любишь не предмет любви, а свою любовь, с мистикою ее ощущений. Эта любовь прекрасна и благоуханна, как цветок весенний, и, подобно ему, скоро вянет. Отличительный характер любви действительной (в которой мы чувствуем потребность, когда уже жизнь порядочно поистреплет нас) состоит в том, что любишь предмет любви, а не любовь свою. Присутствие любимого существа тут дарит тебя не восторгами, а кротким чувством удовлетворения – тебе хорошо и легко – больше ничего; его радость радует тебя больше твоей радости, его печаль тревожит тебя больше твоей печали. В романтической любви ты только больше уходишь в себя, думая совсем выйти из себя, и в основе ее и в проявлении ее – капризный поэтический эгоизм. В любви действительной ты – человек, и я понимаю, что ты сказал не фразу, говоря, что уступил бы мне Armance), чтоб только видеть меня счастливым. Во время истории твоей с А<лександрой> А<лександровной> ты не стыдился передо мною своего счастия, и если бы тебе тогда пришла в голову мысль о подобной уступке – это был <бы> порыв натянутого великодушия, в основе его лежало бы самолюбие, жадное рыцарских подвигов как права на самоосклабление. Ты пишешь, что глубоко дорожишь этою девушкою и ее к тебе склонностию: это значит, что ты любишь ее, а не любовь свою, следовательно, любишь просто, и точка отправления чувства твоего есть ее личность, а всё, что есть прекрасного в ней, служит не предлогом к твоему чувству, а только оправданием его разумности. Ты говоришь, что она не хороша собою: это, по мне, тоже хороший признак, если ты, в котором так развито чувство красоты и который так эстетически сладострастен и развратен, если ты мог полюбить не красоту, а душу в лице женщины, то ты дурак, если не понимаешь, что «счастье так возможно, так близко».[569 - Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 8, строфа XLVII).] Ты говоришь, что чувствуешь в себе силу оторваться от этой девушки и что поэтому это не любовь, а склонность. Не знаю, может быть, оно и так – трудно судить безошибочно о таких важных вопросах жизни; но пока мне всё кажется, что отказаться от истинного чувства легче, чем от фантастического; но зато в первом случае мы теряем счастие на всю жизнь, а во 2-м только на время сходим с ума. Ты говоришь, что желал бы иметь дитя от нее и что заранее любишь его до безумия: дурак, дурак, с длинной бородою укоротился ум твой! Но, впрочем – я скептик, и, может быть, оно и так – т. е., может быть, ты и прав – это не любовь, а склонность; но всё-таки напомню тебе, вместо рассуждений и споров, о тоске одинокой жизни, о болезненности и брюзгливости старого холостяка и о ядовитой грусти и жгучем раскаянии, с коими иные люди повторяют стих из «Онегина»:
А счастье было так возможно,
Так близко!.
* * *-
Журнал губит меня. Здоровье мое с каждым днем ремизится, и в душу вкрадывается грустное предчувствие, что я скоро останусь без шести в сюрах, т. е. отправлюсь туда, куда страх как не хочется идти. Жизнь ничего мне не дала, но люблю жизнь; смерть сулит мне вечный покой, но не люблю смерти. Не упрекаю себя за малодушие – такая натура моя, и в ее любви к жизни я вижу живое начало. Вода сначала только помогала мне немного, а потом сделалось мне хуже. Лучше всех лекарств и вод на меня подействовал бы отдых и удовольствие. Вот почему мне нужно приехать в Москву, к тебе, месяца на два с половиною или больше.[570 - Проект Белинского о поездке в Москву и в Премухино осуществился в мае 1843 г. (см. письма 220 и 221).] Я смотрю на эту поездку, как на меру спасения от верной смерти или неизбежной жестокой болезни, от которой надо будет медленно исчахнуть. Если зимняя поездка в Москву, продолжившаяся с проездом взад и вперед каких-нибудь 3 недели, оживила меня и физически и нравственно, то как же должен я поправиться, проведя лето вдали от чухонских болот, без труда и заботы, с тобою вместе? О, да я воскрес бы! Меня оживляет одна мысль об этом. Добрый Некрасов взялся хлопотать достать мне денег или у книгопродавца на подряд работы, или взаймы на вексель. Надежда на это плоха, но умирающий любит надеяться. Если б это сбылось – я бы сказал директору,[571 - А. А. Краевскому.] что он может вычесть мое жалованье за эти месяцы, и – пожелал бы ему «счастливо оставаться». Заехал бы на недельку в Прямухино, а там к тебе, к тебе! Как бы я рад был увидеть твою Arm – люблю ее, как сестру.
Если бы Некрасов достал мне денег, я бы принялся за работу с жаром и к числу 20 мая был бы свободен, а в последних числах мая или самых первых июня инсталлировался[572 - От франц. installer – водворять, помещать.] в комнате Николая Петровича.[573 - Второй из братьев Боткиных.] Боже мой, неужели и о таком счастии я не должен сметь мечтать!
Прощай.
Твой В. Б.
217. И. С. Тургеневу
<Около 20 апреля 1843 г. Петербург.>
Прощайте, любезнейший Иван Сергеевич! Очень жалею, что не удалось в последний раз побеседовать с Вами. Ваша беседа всегда отводила мне душу, и, лишаясь ее на некоторое время, я тем живее чувствую ее цену. Будьте добры и, по обещанию Вашему, доставьте эти тетради по надписанию. В письме к Бакунину запечатано – что бы Вы думали? – книжка о преферансе.[574 - Письмо Белинского к Н. А. Бакунину не сохранилось. – О посылаемой книжке см. письмо 215 и примеч. 20 к нему.] Это для стариков,[575 - А. М. и В. А. Бакунины. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 96.] – пусть посмеются. Прощайте.
Ваш В. Б.
218. В. П. Боткину
СПб. 1843, апреля 30
Хотел было написать к тебе, Б<откин>, длинное послание, но, увлекшись письмом к Г<ерцену>, потерял время,[576 - Это письмо Белинского к Герцену не сохранилось.] а А<ндрей> А<лександрович>[577 - А. А. Краевский.] сейчас ждет меня. Не знаю, получил ли ты письмо мое, в котором я говорил о необходимости и надежде прожить у тебя лето.[578 - Имеется в виду письмо 216.] План не удался, т. е. Некрасов денег достать не мог, а потому надо издыхать и отчаиваться в Петербурге, на его болотах. Слушал я третьего дня Рубинга (в «Лючии Ламмермур»)[579 - Рубини Джиованни Батиста (1795–1854), итальянский тенор, выступавший в Петербургской итальянской опере. – «Лючия Ламмермур» – опера Доницетти.] – страшный художник – и в третьем акте я плакал слезами, которыми давно уже не плакал. Сегодня опять еду слушать ту же оперу. Сцена, где он срывает кольца с Лючии и призывает небо в свидетели ее вероломства – страшна, ужасна, – я вспомнил Мочалова и понял, что все искусства имеют одни законы. Боже мой, что это за рыдающий голос – столько чувства, такая огненная лава чувства – да от этого можно с ума сойти. С И. Д. Бартеневым[580 - См. письмо 199 и примеч. 19 к нему.] давно не вижусь: кажется, мы оба поняли, что не созданы видеться друг с другом. Скучнейший в мире человек. Умен, благороден, но самолюбив до комизма. Раз я начал хвалить Перовского[581 - Перовский Лев Алексеевич (1792–1856), министр внутренних дел (1841–1852).] и говорить о его значении для России: «Да, да, говоря собственно по отношению ко мне, он очень хорош ко мне». Жалок, ничего не понимает, отстал – последнее я выговорил ему, и это было очень не по сердцу.
Прощай и пиши ко мне, бога ради. Умираю всеми смертями» Теперь хочу лечиться у Завадского[582 - Завадский-Краснопольский Степан Павлович (1803–1869), доктор медицины.] – посылает на дачу, а что за дачи в Петербурге?
В. Б.
219. В. П. Боткину
<10–11 мая 1843 г. Петербург.>
СПб. 1843, 10 мая
Наконец-то ты откликнулся, Б<откин>. Я писал к тебе длинное, предлинное письмо, каждый день прибавляя к нему по нескольку строк.[583 - Письма эти не сохранились.] Сейчас думал засесть за него, по обыкновению ежеминутно ожидая письма от тебя – и вдруг – оно! И потому длинное письмо мое останется без конца, чему я и рад. Спешу прежде всего сказать тебе мое прямое, честнее и беспристрастное мнение о важном для тебя вопросе. Не забывай, что это не более, как мое личное мнение, которое, может быть, и неверно и даже пристрастно как выражение моей личности, а всякая личность столько же есть ложь, сколько и истина. Итак, слушай. Понимаю причины, заставляющие тебя страстно желать поездки в Европу, оправдываю их, если хочешь; но всё это уничтожается в моем уме, сердце, во всем существе моем твоими словами: «Да и есть что-то неблагородное, найдя девушку умную, нежную, с глубоко эстетическою душою, девушку, которая любит меня с преданностию и самою нежною искренностию, – пробудив ее любовь к себе, – вдруг оставить ее на год, оставить ее без действительного соединения с нею, зная и любя ее только внешним образом, – оставить ее на скорбное одиночество сердца». Б<откин>, женщина есть нечто, и, если в ней есть сердце, ее сердце есть еще более нечто: знаешь ли что, по твоему колебанию Arm имеет право думать, что ты недостаточно любишь ее. Если это так, мне жаль обоих вас, и если это так, то ты сам поймешь, как мудрено и страшно решиться мне моим мнением склонить весы твоего решения на ту или другую сторону. Хорошо поехать за границу, хорошо сделать и то и другое, но лучше всего поступить честно и гуманно. Ведь это еще не сущность честности, не высшая степень ее – взять у человека последние деньги и отдать их с собственною гибелью: взять у человека душу, сердце, счастие и честно сберечь их – вот высшая честность, ибо деньги еще возвратимое дело, а разбитое сердце слабого существа, которому общество отказывает даже в праве жаловаться на несчастие, – это дело ничем не поправимое. Притом же, если эта женщина может дать тебе счастие, – то недостоин ты этого счастия, если сам откажешься от него, может быть, для мечты. В любви нет полного удовлетворения – это правда, и жалок был бы человек, если бы он мог найти полное удовлетворение в любви; но из этого отнюдь не следует, чтобы что-нибудь было выше любви: из этого следует только, что ничто одно не может удовлетворить многих потребностей человека. Но вот какое значение имеет в жизни мужчины преданная ему женщина: друг наш, Г<е>рц<е>н, очень счастливо женат, но мы не полюбили бы его, если бы он от этого был не только вполне счастлив, но даже и просто счастлив; однако ж он всё-таки счастливее всех нас. У нас нет ничего ни впереди, ни позади, – жизнь для нас – постылая жена, которую мы ненавидим, но с которою расстаться не имеем права; а у него есть живая связь с жизнию – это его жена. Тяжело тебе, Б<откин>, жить и теперь, но подумай, что из тебя будет в 40 лет – ведь страшно подумать об этом. Поездка за границу освежит тебя на время, но тем тяжелее будет тебе жить после этого краткого оживления. А останься ты – может быть, найдешь то, что нашел Г<ерцен> в жизни, а для этого – чорт побери и восток и запад. Заметь, – я пишу может быть и подчеркиваю эти слова, чтобы ты видел, что я не фантазирую и желания не принимаю за одно с свершением – я ведь тоже умею сомневаться больше, чем обольщаться надеждою. Сверх того, в жизни человека есть фатум, и простые люди справедливы, боясь суеверно идти против судьбы. Я бы на твоем месте встречу с Arm принял за веление провидения не ехать. Да и как тебе ехать – ты раздвоен, удовольствие твоей поездки будет отравлено, а потому и пользы не выйдет. Может быть, у тебя есть мысль, что ведь это только на год, что ты воротишься и всё пойдет попрежнему; не знаю, может оно и так, но я не верю жизни и убежден, что чем более она сулит человеку, тем более требует, чтобы он ценил это, а иначе – разманит, да и покажет шиш; вот, мол, тебе дураку, коли не умел воспользоваться. Еще если бы в твоих отношениях к Arm было что-нибудь определенное, положительное – тогда бы другое дело; а то с какою надеждою оставишь ты бедное, преданное тебе существо, что будет для нее залогом, что ты не изменишься, что возвратишься к ней тем же, каким и был? Скажу тебе более – ибо ты требуешь моего мнения: думая о твоей нерешительности в таком простом, по моему мнению, вопросе, я убеждаюсь, что ты недостоин счастия быть любимым женщиною и что потому-то ты и любим… Нет, если бы меня любила горничная, которая была бы так ниже моих потребностей, что не могла бы занять меня более двух месяцев, но если бы она была привязана ко мне искренно и я знал бы, что разрыв с нею стоил бы ей горьких, хотя и непродолжительных, слез, – о пусть лучше не узнаю я, что такое и минутное забвение, на чувственности основанное, чем испытать такое положение. Может быть, это происходит от врожденного мне прекраснодушия, слабости характера и диких особенностей моей нелепой натуры; но я таков, а ты ведь требовал моего мнения, в котором я был бы самим собою. Прибавлю еще и вот что: понимаю всю прекрасную сторону поездки за границу – понимаю ее так же глубоко, как и ты; но не думаю, чтобы из-за нее стоило рисковать тем, что может повлечь за собою или сознание утраты предоставлявшегося счастия, или – что еще хуже – вечное раскаяние в разбитом сердце женщины.
Есть одно, чему можно пожертвовать женщиною и иметь право разбить ее сердце – это долг; но едва ли можно видеть долг в поездке за границу; тогда как отношения твои к Arm, которые ты один создал, суть без всякого сомнения долг, в котором гораздо более определенного и положительного, чем в первом. Вот всё, что могу сказать я об этом предмете; коли увидимся, скажу более, а пока более нечего говорить.
Отвечай мне немедленно. Сегодня (понедельник 10 мая) получил я письмо твое, сейчас же написал ответ, а завтра (11 мая) оно пойдет к тебе. Сделай и ты так. Пиши ко мне просто и коротко о своем решении в ту или другую сторону, не говоря о причинах. Моя поездка в Москву зависит от твоего решения. Пиша к тебе о моем страстном желании ехать на лето в Москву, – я, признаюсь, имел надежду на твою помощь. Просить прямо я не хотел, ибо знал, что, если можно, ты сам сделаешь; а что я просил косвенно, в этом не каюсь и этого не стыжусь: дело шло не об удовольствии, а, может быть, о спасении моей жизни. Я болен и крепко болен; душа моя угнетена трудом, заботою и тоскою – мне нужен отдых, свобода, бездействие, удовольствие (которого я не помню с последней поездки моей в Москву). Если ты остаешься и не едешь за границу – я еду в Москву и могу выехать числа 26–27 мая. Ты думаешь сам приехать – оно хорошо, да ведь мне нужны твои деньги, и тебе на проезд взад и вперед нужны деньги – стало быть, вдвойне: подумал ли ты об этом? Теперь, сколько мне нужно денег? Вот об этом тяжело и говорить. 40 руб. серебром нужно за дилижанс взад и вперед; но как на обоих путях (или по крайней мере на первом) мне непременно нужно заехать в Прямухино, то выйдет и больше. 10 руб. серебром только что станет на издержки в пути. Впрочем, я напрасно считаю вдвойне – на первый случай нужно тебе выслать столько, чтобы я в Москву мог приехать. 100 р. асс. надо будет внести за квартиру, иначе хозяин не пустит. Рублей 200, по крайней мере, нужно на долги в Петербурге и кое-какие приготовления. Остальное сам знаешь, сколько нужно для проезда. Много, много надо: подумай, а подумавши, скажи прямо и искренно – ведь это деньги, а отдам-то я тебе их бог знает когда. Разумеется, хотя в Москве мне и нечего будет тратиться, живя на всем на готовом; но все же нельзя будет жить и без каких-нибудь денег. А у меня своих к отъезду останется разве гривенника три, да и то вряд ли. Подумай и отвечай немедленно. Человека я отпущу, квартиру поручу Левушке Краевского. Прощай. Отвечай же скорее – по пальцам буду считать дни и минуты получения твоего ответа.
Вторник, 11 мая
Отправляя сейчас письмо это на почту, не могу еще не прибавить несколько слов. Я показывал письмо твое П<анае>ву; я думал, что он объявит себя за поездку против женщины; но он объявил себя согласно со мною и вполне согласился со мною, что не понимает, как можно колебаться в таком случае. Трудно быть судьею чужого дела, но по зрелом соображении (ибо я беспрестанно думаю всё о тебе) более и более убеждаюсь, что я прав. Насчет контракта, кажется, нечего и хлопотать – он, к несчастию, ненарушим. Впрочем, надо знать все подробности и условия. Это неприятно, но против твердой воли ничто не устоит.
Мысль, что я еду в Москву, носится в моей голове, как приятный сон. Я только тогда уверюсь в ее действительности, когда петербургская застава исчезнет из виду, и, как узник, почуявший свободу, глубоко, вольно и радостно дохну я свежим воздухом полей.
Если будешь высылать деньги, то высылай на имя Краевского, а отнюдь не на мое.
Прощай. Письмо это получишь ты в пятницу (14 мая), а в субботу посылай ответ, чтобы я получил его во вторник.