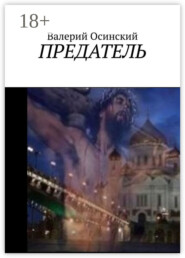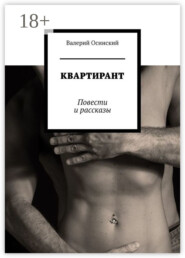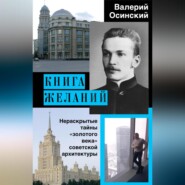По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский излом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего страшного! – адвокатствовал Борис. – Они хотят скорее отбить свои деньги, жить богато и красиво, сейчас, а не завтра. На собеседовании о найме на работу эти спецы метут такую пургу, хоть Задорнову отсылай. Пооботрутся, научаться.
Диссертация тоже не вызывала в хребте дрожи счастливой догадки или радости бытия: проверка ссылок, оказавшихся небрежностью или обманом, – сносок из унылого пудового тома на сноски в томе еще пуще унылом и пудовом – скука смертная.
Сегодня жизнь кафедры показалась Ксении скучнее и глупее, чем обычно.
…Мать в кресле у закутка разговаривала с заведующим кафедрой Серебряковым, доверительно, со слащавой улыбочкой, клонившегося к собеседнице через стол. Скрещенные ноги главного ученого кафедры в канадских всесезонных башмаках, две пижонские замшевые заплатки на локтях пиджака, водянистые глаза под веночком седого пуха над ушами, и губы, как жирные слизни неизменно навевали на Ксению уныние.
– А—а—а, а вот и наша невестушка! – Слизни расползлись, обнажив пару великолепных вставных протезов. Серебряков выпрямился. Ксения поздоровалась. С тех пор, как месяц назад Савелий Валерьянович узнал о замужестве Ксении, он называл ее исключительно «невестушка», и это раздражало девушку. На кафедре Серебрякова недолюбливали, считала карьеристом и мздоимцем. Он обирал студентов, и имел какие—то делишки с проректором по социальным вопросам. Но со студентами вел себя, как свой парень, и провоцировал преподавателей на разговоры о институтских несправедливостях.
Ксения принужденно улыбнулась затертой шутке.
– Вера Андреевна как раз рассказывала о несчастье с вашими соседями, Ксения Александровна. Этот молодой человек, кажется, навещал вас здесь. Такой… – Серебряков набычился, изображая мужество, и энергичным, сверху вниз жестом, дополнил портрет. – Сожалею. Весьма сожалею. – Грустное лицо заведующего тут же просветлело. – Но мы обязательно будем на выездном, так сказать, заседании кафедры! – и захихикал.
Ксения уничтожающе посмотрела на мать.
– Я как раз об этом хотела поговорить с вами, Савелий Валерьянович…
– А? Да, да, конечно, посоветуйтесь. Приятные хлопоты. – Он снова захихикал, словно не расслышал, вскочил: «А у меня делишки!» – и убежал.
– Что ты тут делаешь, мама?
– Во—первых, кафедра, – Вера Андреевна встала и машинально пробежала пальцами по янтарным бусам на груди. Вязаное шерстяное платье неудачно подчеркивало «галифе» на бедрах и небольшую выпуклость живота. – Отец рассказал о утреннем разговоре. Что вы нехорошо расстались с Борей! Пересядем ко мне.
В другом закутке, где раньше хранились швабры и ведро для мусора, Ксения повесила на плечики в шкаф плащ и присела за низкий дубовый столик, который где—то выхитрила мать. Угол предоставили Вере Андреевне в исключительное пользование.
– А зачем ему рассказала? – Ксения кивнула на давно истаявший след заведующего.
– Чтобы для людей не было неожиданностью, когда ты их прогонишь…
– Так ты принимаешь меры? – едко спросила Ксения.
– Пожалуйста, не дерзи. – Взгляд матери стал колючим – прямо злая, постаревшая Ксения. – Тетя Маша просила передать, чтобы ты не дурила. Мы все хотели, чтобы вы с Сережей поженились. Ты решила по—своему. И нечего назначать всех негодяями, а себя…
– Хватит! – Девушка упрямо сжала губы. На ее виске запульсировала жилка, глаза покраснели. – Не повторяй пошлости! Ты прекрасно знаешь, что я не люблю Бориса. Не люблю так, как любила Сережу, – поправила она себя.
– Раньше надо было думать!
Из глаз Ксении закапали крупные слезы. Девушка отвернулась, чтобы не видели преподаватели. Вера Андреевна спохватилась.
– Послушай, доченька! – наклонилась она к девушке. – Это эмоции. В твоем положении так бывает. Ты ведь понимаешь: тянуть дальше нельзя. Неприлично. А любовь… Я всю жизнь люблю твоего отца. Любовь это счастье, но это и бремя. Я ни о чем не жалею, но мне иногда кажется, что можно было прожить иначе…
Женщины переглянулись. Верно, мать намекала на забавное семейное предание, как студентом отец отбил ее у старшекурсника, нынешнего главы департамента каких—то там ресурсов Москвы.
– Мама, мне не до глупостей сейчас! Если бог есть… – прошептала она.
– О, господи! Ксюша, не время сейчас об этом! – Вера Андреевна покосилась, не слышит ли кто—нибудь тихую истерику дочери.
– Если Он есть, Он не простит мне этой лжи. Не простит мне гибели Сережи!
– Да может, это единственный оставленный тебе выбор?
– Мама, какой выбор! А, если бы это я, папа, или… ты. А за стеной пляшут. Господи, что я болтаю!
Ксения закрыла глаза и выдохнула:
– Это ребенок Сергея. Я не смогу, когда за стеной лежит его отец!
Вера Андреевна недоверчиво смотрела на дочь, ожидая, что та признается в злой шутке. Наконец, лицо ее вытянулось и посерело.
– Как же ты скажешь Боре? – пробормотала она.
Мысли ее смешались. Но одно она понимала ясно: произошла катастрофа, и выхода нет. Расскажи дочь все Борису, и она останется одна с ребенком. Жизнь ее сделает зигзаг, который Ксении вряд ли удается выпрямить. А когда ложь откроется – после замужества и родов – неизбежно! – Хмельницкие не простят Каретниковым подлости, а Красновские – надругательства над памятью их сына и многолетней дружбой. Прочие будут посмеиваться Каретниковым в спину. Она представила ситуацию глазами дочери, и поискала в сумочке валидол.
– Послушай, но ведь он знал, что ты была с Сергеем, – быстрым полушепотом заговорила Вера Андреевна. – В конце концов, ты сама могла не знать, чей ребенок? Боже мой, боже мой! Какая чушь! – Она закусила губу и отвернулась, чтобы не заплакать.
– Мам, надо все отменить, – спокойно проговорила Ксения.
– Да, да, надо, – убитым голосом сказала мать.
Мимо них к вещевому шкафу прошелестела старушка Дуве в зеленом платье и в туфлях с кожаными пряжками («сидите, сидите, Ксюша!»). Она улыбнулась девушке из—под темных бровей. За ней пыхтел Андреев в подтяжках на толстом животе и, гнусавил свое затертое определение заведующему: «у него, может, целая гора научных достижений, но состоит эта гора из плоскостей…». Верочка и ее муж, громыхая, переставили мытые чашки с подноса в буфет, Верочка по диагонали комнаты перекатилась к Каретниковым и заговорщицки шепнула: «А какой мы вам подарок приготовили!»
– Что же мы им скажем? – Вера Андреевна растерянно посмотрела на дочь.
– Не обязательно им все объяснять, – проговорила Ксения.
– Тогда надо все рассказать Боре. Он то, чем перед нами виноват?
Вера Андреевна долго натягивала кожаное пальто, ладонью оправляя подкладку на плечах, и долго завязывала бантом розовый шарфик.
– Пойдем, доча! – Она подождала и повторила: – Пойдем!
Ксения послушно поднялась, взяла в охапку плащ и вышла, не простившись.
На следующий день Борис появился у Каретниковых лишь раз: привез из гостиницы Ломовых: тетю Лиду с мужем. Он даже не поднялся в квартиру. Спешил.
Жизнерадостный Ломов то и дело заходился смехом. На него шикали. Он делал страшные глаза, картинно прикрывал рот, и потом опять смеялся. Бабушка, совсем старенькая, сидела у внучки, чтобы не мешать.
Каретниковы отмалчивались. Их траурное настроение родственники объясняли несчастьем соседей. Александр Николаевич избегал дочери, а, сойдясь с ней, отводил взгляд. Ксения поняла: мать ему рассказала, и он тоже не знает, как быть.
Из ателье привезли свадебное платье. Ксения отказывалась примерять, ее уговорили, и она была в нем очень мила. Родственники смотрели на девушку с молчаливым обожанием. Домашние – с грустью, и у Ксении было ощущение, что она надела краденую вещь.
Ломовы уехали к знакомым и обещали вернуться за бабушкой. Ксения безвольно сидела перед открытым гардеробом. Мать в гостиной на швейной машинке прострачивала свой праздничный наряд. Отец переливал на кухне в пол—литровые бутылки коньячный спирт. Но все это делалось так, словно, сейчас войдет распорядитель и все отменит.
В общем коридоре забасили голоса, шаги, гулкие на пустой лестнице, зачастили, как если бы несколько человек толкались в узком переходе с чем—то громоздким и тяжелым. Ксения насторожилась. Мать прошелестела к двери и охнула. Громыхнули бутылки – отец второпях споткнулся о ящик – и его шаги оборвались в коридоре.
Ксения накинула черную шаль и отправилась к соседям.
На столе, накрытом до пола красным драпом, высился прямоугольный металлический ящик, огромный, страшный. Вцепившись в гроб, у изголовья скорчилась тетя Маша. Она жалобно причитала. Марина, сутулая, уткнула рот в сомкнутые кулаки. Вера Андреевна сморкалась в скомканный носовой платок. Четверо солдат переминались и поглядывали на гражданских.