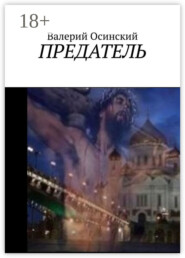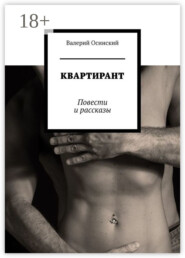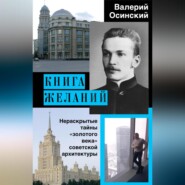По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский излом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Допустим, он примет на себя обязанности отцовства за другого. (Хотя может родить своего ребенка с другой женщиной и будет счастлив!) Женятся же на женщинах с детьми, и ничего, живут и воспитывают чужих. Но тут иное. Его хотели обмануть! И если бы рок не распорядился по—своему, подлость бы получилась. И этот, чужой, каждой черточкой лица и фигуры, привычками походил бы на настоящего отца и напоминал о глупости, которую совершил Хмельницкий, поддавшись ложному великодушию. Хорошо, если он привыкнет к этому ребенку! А если возненавидит и будет возвращаться в постылый дом до тех пор, пока все ему не надоест, и он не начнет жизнь сначала, так, как это должно быть у нормальных людей! Без вывертов и надрыва.
Он представил Ксению такой, какой оставил ее сейчас: ссутулившуюся на диване, и подобравшую руки под живот, как подбирает лапки кошка. И сравнение с беззащитным зверьком показалось ему особенно пронзительным.
«Надо выпить».
Пультом Борис открыл железные ворота и включил фигурную подсветку по периметру дома. Ровный, холодный свет заполнил двор, мощенный резной каменной плиткой, и пугливые тени попрятались под аккуратно подстриженные кусты.
В гостиной пахло клеем и краской. Борис налил фужер «Хенесси», упал в кожаное кресло, тихонько выдохнувшее под его весом, и сделал два жадных глотка. Затем мысами сковырнул с пяток туфли, и разбросал их по углам.
В голове приятно зашумело. Он выпил еще коньяка.
«Надо всех обзвонить!» – без энтузиазма подумал Хмельницкий. Представил своих «начальничков»: вечно пьяного «старого казачка» Кружилина, помыкавшего людьми, как скотом; его безграмотную дочку—хабалку – эта за папиными деньгами мнила себя воротилой строительства – ее инфантильного мужа с пэтэушным образованием. Вспомнил свой кроличий страх перед ними. Да так явно, что у него похолодели руки. Вспомнил, как фальшиво улыбался до судорог рта шуткам начальства. Свою озабоченную мину, когда те болтали чушь. Как презирал их, а свое презрение скрывал за подобострастьем и угодливостью, и ненавидел свое холуйство. Борис впервые подумал: они обыкновенные люди, живут своей жизнью, и нет им дела ни до него, ни до таких, как он, и так же, как он, они презирают холуйство в подчиненных. А его страх и злость – из зависти!
Ксения сначала беззлобно посмеивалась над его нытьем, потом жалела его, и, наконец, замолчала. Он приучил ее думать о его работе и окружении, как о чем—то значительном, и приучил бояться потерять это.
Теперь все они останутся в его жизни, и он будет из кожи лезть, чтобы угодить им. Останется его новый дом. Со временем вернется душевный комфорт, что приносят деньги. Но в его жизни не будет Ксении!
Он подумал: все, что он делал, якобы, для себя и для Ксении, и за что она должна была быть ему благодарна, как он был благодарен своим благодетелям, он делал даже не для себя и не для нее, а для тех, кто в его представлении, словно со стороны одобрительно поглядывают на его правильную жизнь. И, не скажи ему сегодня Ксения правду, он бы дальше с вежливым равнодушием взирал на горе Красновских, как привык смотрит на людей глазами тех, кого презирал за спесь, и кичливость удачей. Он ни разу не подумал, что горе Красновских, это горе Каретниковых и Ксюши. Им не до торжеств. А он насиловал их волю, словно ничего не случилось! Не случилось для него!
Так чего же стоит его жизнь, если он мучает самых близких, не замечая этого!
– Вот он где! Рефлексирует! – Борис вздрогнул. Он не слышал шаги. – Я же говорил, тетя Наташа, Борька прощается с холостой жизнью. Втихоря.
Это был Леня Завадский, двоюродный брат, и мать. Леня мягко хлопнул младшего брата по плечу. Тремя пальцами за горлышко взял с десертного стола бутылку и прочитал:
– Хенесси. Жируем. Зачем мобилу отключил? Звоним Каретниковым, а они ни сном не духом. Тетя меня в охапку и сюда. Что стряслось? Ксюха взбунтовалась? – В его голосе была досада, что его выдернули из постели, и облегчение, что все обошлось.
– Боря, что за новости! Как так можно? Я с ума схожу…
– Мама, пожалуйста, не стой у меня за спиной!
Хмельницкий видел мать в отражении окна: строгую, будто, она выговаривает ребенку; руки в замок под грудью, как у оперной певицы перед выступлением. Борис не поднялся навстречу матери, как он поднимался обычно, и она укоризненно встала сбоку, чтобы он ее видел. У нее было некрасивое, обветренное лицо «пожизненного мастера участка», как шутил над тетей племянник.
Леня по—хозяйски уселся в кресло спиной к холодному камину, переплел на животе пальцы и скрестил ноги. Это был круглолицый парень за тридцать, с большими залысинами, и без шеи. На нем был костюм в частую полоску. Леня возглавлял небольшую ремонтную фирму, в церковные праздники жертвовал много, и посмеивался с добродушным цинизмом: «А вдруг, пригодиться». Тетя Наташа выбрала племянника в своего рода опекуны Бори и ставила Леню в пример сыну за «целеустремленность».
Когда Завадскому рассказали о Красновском, он его вспомнил: «Ходил в нашу секцию бокса. Удар хороший, но не боксер: жалел соперника».
– Боря, что все это значит? Это твое пьянство, твой вид, этот тон. Второй час ночи. На кого ты будешь завтра похож? – Мать впервые видела сына в таком состоянии.
– Подожди, тетя Наташа. Что стряслось, брат?
Борис с силой потер лицо, словно, хотел немедленно протрезветь.
– Все нелепо, глупо! – пробормотал он. – У Ксении ребенок от Сергея, а не от меня.
Наталья Леонидовна присела в кресло. Миниатюрная, в джинсах и в мохеровой кофте с торчащими шерстинками она напоминала взъерошенную детскую игрушку.
– У нее истерика, – сказал Леня. – Сергей, свадьба, беременность. Наговорила на себя.
Борис скептически покривил губы и отрицательно поводил головой.
– Такими вещами, Лень, накануне свадьбы не шутят.
Черные глаза Натальи Леонидовны повлажнели.
– Ты знал это. Я тебе говорила, что она выходит за тебя из—за денег…
– Знал! Знал, что унижаю их этими побрякушками, – Борис попытался отстегнуть золотую запонку и не смог, – что считаю Каретниковых обязанными мне за то, что беру их дочь от другого…
– Боря, у тебя истерика.
– Дайте ему выговориться, – тихо сказал Завадский, плеснул в фужер минералки и подтолкнул брата под локоть. Боря выпил, и заговорил спокойнее.
– Думал, солдафон, армейская кирза рисуется перед девчонкой. А она, дурочка, не видит настоящей жизни. Попробует – поймет. – Он тяжело поднялся, и, опустив руки в карманы брюк, прошел по комнате, бледный, словно, глядя в себя. – А что поймет? Что талант мы измеряем толщиной котлеты из бабла? Считаем себя новой аристократией, и хапаем, ничего, не давая ни тем, кто нас учил, ни тем, кто для нас рисует, пишет, играет? Наследники хама с бабками! А он был настоящий.
– Боря, не пей. Будет плохо, – попросила мать. Но Борис налил полфужера и выпил.
– Тогда, в парке про Исаакиевский собор она говорила. Я не сразу понял. А это их место. Она специально меня привела. – Он помолчал. – Я мог бы ее притащить в загс. Но, даже, если б не ребенок, она не простила бы мне, что я перешагнул через их любовь. С мертвым не потягаешься.
– Это она должна тебя простить? – На лице Натальи Леонидовны появилось выражение: большее нахальство трудно вообразить!
– Да, она! Прав ее отец: об колено ее хотел, когда она еще в себе не разобралась! А ты мне, мама, какую невесту желаешь? Чтобы в рот мне заглядывала и в зад целовала за то, что я ее лицом в мое дерьмо?
Наталья Леонидовна растерянно поерзала в кресле.
– Когда похороны? – спросил Леня.
– Завтра утром.
– Что же они дотянули до сегодня? Каретниковы. Сами не знали? Ну, ну.
– Боря, сейчас Леня отвезет нас домой, ты примешь душ… – В голосе матери зазвучали привычные волевые нотки.
– Да, конечно, мама. Поезжайте.
– А ты? Надо успеть предупредить Николай Евсеевич, Марину Николаевну. Извиниться перед ними. Кружилин для тебя много сделал…
– Я ему отработал, – огрызнулся Борис. – Кружилины в моей жизни еще будут. А Ксюха – одна. И… и прости, мам. Я тебя всегда слушал, но сейчас это мое дело.
Наталья Леонидовна обеспокоено посмотрела на Леню.
– Все мы бываем слабыми, брат, – Завадский присел на подлокотник тетиного кресла. – Но так дела не делаются! Если бы вы расписывались втихоря, без понтов, это были бы ваши с Ксенией дела. Могли бы в любой день приехать. Но зачем всех мордой об стол. Завтра соберутся люди. И что? Даже, если ты нафантазируешь красивые глупости на ее счет, и она с тобой распишется, торжеств завтра все равно не будет.
– Да, фиг с ними! – безвольно проговорил Хмельницкий и плеснул себе еще коньяку.
– Какие еще красивые глупости? – всполошилась мать. – Ты что же, Леня, предполагаешь, что после всего, что он вытерпел от этой… от такой невесты, между ними еще что—то может быть?
Завадский встал и прошелся по комнате.