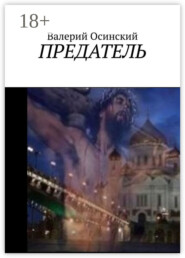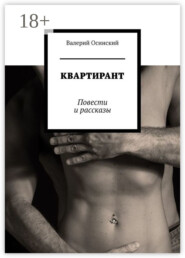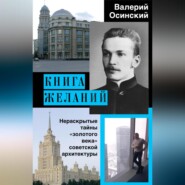По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский излом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дурацкая ситуация, – процедил он сквозь зубы. – Ты—то, что ей сказал?
– Ничего. Я не знаю, что делать.
– Ладно, какие завтра торжества? – Леня вздохнул, и упредил сетования тети. – Об их отношениях с Сергеем вся улица знала! Нашим пацанам я скажу. Кружилину сам звони. А мне дай номера мобильников остальных твоих гостей. А, у тебя, тетя Наташа? Хорошо. В загсе и в столовой я разрулю. По бабкам, думаю, влет только за аренду. Харчи не пропадут. Каретниковы со своими гостями разберутся. Им проще. Их родственники, надеюсь, уже знают про соседа. Ну, а с Ксенией решай сам! – хмыкнул Леня.
Наталья Леонидовна обижено отвернулась.
– Второй час ночи, – промямлил Борис.
– Лучше перестраховаться, чем завтра выглядеть идиотами. Ладно, поехали, тетя Наташа. Башка от недосыпания раскалывается. – Завадский за локоть поднял женщину с кресла, и на ее немой протест, что нельзя оставлять сына, шепнул: – Пусть побудет один.
Он заткнул пробкой недопитую бутылку и спрятал ее в карман пиджака.
– Поспи, брат. А то, как привидение. Утро вечера мудренее.
– Боря, будь мужчиной. Не совершай опрометчивых поступков, за которые придется расплачиваться всю жизнь, – проговорила у двери мать.
…Борис проснулся на диване. Бок и неудобно изогнутая шея затекли. Сорочка прилипала к телу. Костюм был измят. Хмельницкий сел, осторожно разминая суставы, и провел ладонью по колючей, потрескивавшей щетине. Выключил свет. Хмурое утро через серые окна тут же растеклось по комнате. Декоративные ходики в углу показывали начало восьмого. На сердце было мерзко. Хотелось пить.
Вчера в памяти мелькнуло что—то важное из их с Ксенией прошлого. Хмельницкий достал из холодильника бутылку минералки и сделал несколько жадных глотков. В голове прояснилось.
Борис вспомнил вчерашнюю обмолвку о прогулке с Ксенией в парке. «Исаакиевский собор!» Их, Сергея и Ксении, церковь! Вот, то, что он вчера упустил!
До сего дня Хмельницкий отождествлял религиозный культ с дремотными параграфами пособия по истории философии для высшей школы – он удовлетворительно зачитывал их на экзамене суконным языком со шпаргалки, – а ныне, как модное поветрие. Он знал о церкви большей частью из книг. В детстве бабушка рассказывала, как узнавать части света по храму: вход с запада на восток. В шесть лет запомнил сельского батюшку в рясе и с нагрудным крестом, босичком поспешавшего по проселку: Боря с бабушкой завтракали на бугорке у обочины, после похода за грибами. В тринадцать лет убранство православного храма, запах ладана, плавленого воска и позолоченное великолепие непонятного обряда показалось ему экзотикой. В девятнадцать с криворотой ухмылкой он слушал в Троице – Сергиевой Лавре пронзительную «алилу—у—ю-ю» коленопреклоненной старухи. Историческая случайность в пересказе Карамзина и Соловьева о выборе славянами однокоренного вероисповедания, сутры, суры, ньяя, йога и мохнатое слово вайшешика, пессимизм Екклесиаста, модное чтение Хайдегера и Камю о безнадежной смертности человека, неокантианские выкладки православного толка Павла Флоренского, – первая подвернувшаяся Хмельницкому книга такого рода – пенявшего, что мучительная тоска перед страхом смерти и внезапная надежда, вместо столпа и утверждения веры в сердце православного, не дают даже издохнуть спокойно, размышления Зеньковского, Лосского, Сергея Булгакова, братьев Трубецких, все это с годами перемешалось в сознании Бориса, и не влияло на его жизнь. Он не задумывался о вере.
Но сейчас, после пережитого потрясения, Хмельницкий вспомнил о церкви, ощутил предчувствие радости, словно, нашел избавление от своей раздвоенности и страданий. Как же он не догадался раньше! Истина одна, но каждый видит ее по—своему. Всякий даст ему верный и дельный совет. Но дельный и верный – с точки зрения постороннего человека. И это не значит, что советчик сам поступит так, как говорит, то есть по совести. Благообразная ложь лишь кажется человеку правдой о себе, когда он советует другому. Он не черпает из глубины своего сердца, потому что это чужая боль.
Борис испугался опоздать к службе, не услышать и не успеть рассказать то главное, что он не сумел рассказать Ксении прежде, и что, наверное, знал Сергей.
Он наскоро умылся, забросил в рот «анти полицай» и пошел к машине.
Хмельницкий припарковал автомобиль на площадке перед храмом. Неумело перекрестился на ворота с крестом над аркой и растерянно огляделся. Церковный двор был пуст. За деревьями в отдалении свенцивел пруд. Бездомная собака опасливо понюхала ветерок со стороны Хмельницкого, и убежала. Он представил Ксению и Сергея в этом дворе. И недавнее предчувствие радости истаяло.
Борис нерешительно шагнул к ступенькам церкви, и едва не столкнулся с батюшкой. Священник вышел из—за поворота ограды. Он на ходу оправлял нагрудный крест и бороду. Лет сорока, рослый, осанистый, в черном клобуке. Из—под рясы мелькнули черные щегольские штиблеты.
Хмельницкий не умел обратиться. Он ускорил шаг и поравнялся со священником:
– Простите, можно вас!
Батюшка обернулся на небритого, запущенного мужчину в дорогом костюме.
– Подходите после службы, – пробасил он, не останавливаясь.
– Мне нужно сейчас. Потом будет поздно, – быстро и сбивчиво заговорил Борис. – Я сегодня должен был жениться. Моя невеста беременна от другого. А его убили на войне и сегодня хоронят. Она идет на похороны.
Хмельницкий испугался, что священник примет его слова за пьяную хулиганскую выходку и горячо добавил:
– Я люблю ее. Но не знаю, сумею ли полюбить ее ребенка. А все… Всем все равно! Я не знаю, как быть. Посоветуйте. Как человек. Ведь к вам с таким приходили.
Священник остановился и с любопытством посмотрел на парня. Борис подумал, что не надо было говорить про беременность Ксении. Из—за этого щеголеватый батюшка его прогонит или прочтет скучную мораль.
– Нет, с таким ко мне не приходили. Детишек от других приживали, или сомневались, своего ли воспитывают. Такое было. А это – нет.
– Так, как мне быть?
Священник нетерпеливо посмотрел на храм, и задумчиво покусал ус.
– Вы верующий?
– Иногда хожу в церковь.
– Понятно. Значит, серьезно не задумывались над верой. Вы сказали, что любите ту женщину.
– Да.
– Тогда ответьте себе, сможете ли вы прожить с ней всю жизнь, с такой, какой вы ее знаете, и с ее ребенком, и ни разу не попрекнуть ее этим? Сумеете ли вы простить, так, чтобы не жалеть об этом. Иначе, вы погубите ее и свою жизнь. Не спешите. Я так понимаю, сегодняшний день уже решен. Но завтра будет другой день. А за ним еще.
Хмельницкий согласно закивал.
– Вы правы. Так сразу нельзя. Она только вчера призналась. А что же мне сейчас делать?
Хмельницкий растерянно посмотрел на священника.
– Она совестливый человек. Запуталась в себе. Так не мучайте ее. Дайте мир ее сердцу. А решение придет.
Священник повернулся идти. Хмельницкий схватил его за локоть и поискал бумажник.
– Вы что? – нахмурился батюшка.
– Я хотел пожертвовать церкви. Простите, я не знаю, как положено… – застыдился Хмельницкий своей оплошности.
– В церкви есть жертвенник… – батюшка кивнул и ушел.
Хмельницкий помялся и нерешительно ступил следом.
Во дворе храма, выстроенного крестом, какая—то старушка троекратно перекрестились и махнули лобный поклон до фигурной брусчатки. За нею по крыльцу и через притвор Хмельницкий вошел в центральный предел.
В церкви в ранний час было прохладно и немноголюдно, не смотря на выходной. Молоденький священник с редкой бородкой и перхотью на рясе, с амвона речитативом гнусил главу из евангелия. Тихо потрескивали свечи в медных подсвечниках, воняло масляной краской и воском. Борис ступил к правой солее, чтоб не путаться под ногами.
Горбатенькая старушка в черном выбирала из подсвечника огарки; рослый старик с седой бородой и желтыми усами скорбел в пол, сцепив узлом руки у паха. Борис вспомнил из где—то читанного, что явное признание и исповедание православия большей частью встречалось в людях тупых, жестоких, безнравственных и считающих себя очень важными. Он машинально поименовал по памяти церковный инвентарь из читанного у Чехова и Лескова. Увлекся и потерял интерес к неизъяснимой херувимской песни на непонятном языке. Он не разделял столетний восторг афоризма, мол, если я слушаю – то не понимаю, а все же хорошо; и думаю: все хорошо – что мы не понимаем; а что мы понимаем, то уже не хорошо. Что—то было для Бориса плохо из того, что так хорошо нагородил Розанов вокруг церковных стен.
Борис принялся рассматривать иконы двунадесятых праздников, апостолов, пророков и ветхозаветных патриархов на иконостасе, списанных с лицевых «Менологий императора Василия второго»: пестрое собрание напоминало пантеон близнецов. Прочитал золоченную церковно—славянскую вязь над клиросом и остался доволен своими познаниями.
Озираясь, Борис ощутил похмельное раздражение. Все эти люди жили заурядной жизнью, как жили до них, и будут жить после, усеивая свой путь противоречиями. Одни читали, что читал Хмельницкий, другие нет. Их привела сюда вера. Но, разные, и верили они по—разному! Первообраз, символ, начертанный на доске красками, у каждого в душе свой. Но именно в храме они находили умиротворение в сердцах! Так ведь и он, считавший себя атеистом, пришел в церковь в решающую для него минуту!
Борис подумал о Ксении. Не только ее опыт, но и внутренняя жизнь, – часто у людей интенсивнее внешней событийности, – вероятно, уступала его опыту, тому, что он пережил в нищенском детстве без отца, тому, что прочитал и передумал. Когда девушка успела понять то, что только сейчас, когда у него на душе невыносимо, стало ему необходимо? (Если только Ксению и Сергея привела в церковь не праздность, а вера!) «Исаакиевский собор» был в их душе с детства, догадался Борис. Они помнили об этом всю жизнь. И Ксюша пыталась рассказать ему, Хмельницкому, о своей любви. Значит, вера ее была не от ума, а от сердца. Как в детстве ощущение доброты. Оно есть и все тут! Потом, во взрослой жизни это ощущение притупляется, его затирают поступки людей. Не вообще людей, а конкретного человека: одного, другого…
И когда Ксюша растерялась, он не сберег ее ощущение доброты. Он подминал ее под себя. Как поступали с ним другие, для которых абстракции, о которых он размышлял сейчас, были в прошлом, либо не существовали. Ибо эти мысли не влияют на жизнь, а лишь мешают видеть ее такой, какая она есть: конечной, с простыми человеческими радостями приобретения, и горечью утрат для одних, и простой формулой счастья – счастье – это отсутствие несчастий! – для других.