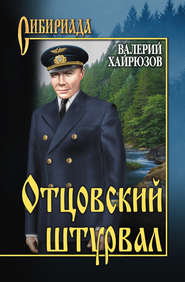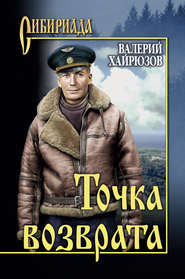По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Добролёт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мороженое вредно! – обрезал дед. – От него может развиться сахарный диабет. Пусть едят то, что растёт в огороде. Это в сто раз полезнее для здоровья.
– Сегодня я состряпала оладушек, – сообщала бабушка, – будем пить чай.
Мы садились за стол, посреди которого возвышался медный самовар. Она пила из блюдечка и расспрашивала меня об учёбе, хорошая ли у нас учительница и есть ли уроки пения.
– Есть! – отвечал я.
– И что же вы поёте? – поинтересовалась баба Мотя. – У твоего отца был слух, он хорошо играл на баяне.
– Да, его на все гулянки приглашали, – подтвердил я. – Мама ругалась, когда он засиживался допоздна.
– Коля хотел стать музыкантом, – вздохнула бабушка. – Он ведь самоучка, подбирал песни на слух. А вот учиться не довелось. Ему, как и соседской Любке, пришлось тащить наш семейный воз. Потом война, уже своя семья, дети.
Она расспрашивала, какие предметы в школе мне нравятся больше всего. Я сказал, что интересуюсь географией, историей и, помолчав немного, добавил, что ещё люблю читать книги. Вот только пишу с ошибками. Ещё мне нравились военные песни. Например, эта:
Мы красные кавалеристы, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ… —
пристукивая по столу кулаком, начинал я.
– Под эту песню капусту бы крошить, – засмеялась бабушка и, вздохнув, добавила: – В моё время были другие песни.
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…
Я терпеливо слушал, смотрел на висевший на стене её портрет, как она говорила, тогда она только что закончила училище и приехала к отцу в Кимильтей. Камлотовое платье коричневого цвета, белые рукавчики, белый передник с лифом, который застегивался сзади булавками. «На занятия по танцам мы надевали прюнелевые ботинки, лёгенькие, они хорошо держали стопу и не сковывали движения, – рассказывала бабушка. – Были уроки рукоделия, нас учили вышивать крестом полотенца, салфетки. Конечно же, как и все дети, баловались и играли в «Третьего лишнего», «А мы просо сеяли» и ещё в фанты. Перед этим выбирали ведущего, и он скороговоркой читал: «Барышня прислала сто рублей, чёрного небелого не покупайте, о жёлтом даже не вспоминайте, «да» и «нет» не говорите, что хотели – получайте, головою не мотайте, смеяться тоже нельзя. Сидит Дрёма, сама дрёма, сама спит. Рубль поехал, рубль пошёл. Рубль хозяина нашёл». А позже, когда мы немного повзрослели, нам стали позволять посещать вертепы, такие были передвижные кукольные театры. И ещё в те времена иркутский купец Второв проводил в городе ситцевые балы. Все должны были приходить в ситцевых нарядах и платьях. Некоторые наши девушки, собираясь на такие вечера, и, дабы приобрести интересную бледность, даже пили разбавленный уксус. Перед окончанием учёбы я держала экзамен на учителя, который с успехом выдержала, и мне выдали в подарок швейную машину «Зингер». Когда началось раскулачивание, машинку эту я спрятала, позже она помогала нам выжить. Швейные мастерские только в городе были. А здесь полный дом ребят, их всех обшивать надо».
– Баба, а как ты познакомилась с дедом?
– А мы девчонками на суженого-ряженого гадали. Брали божью коровку, клали на ладонь и смотрели, куда она поползёт. Смотрят, с какой стороны к ней счастье придёт, где её суженый живёт. Ещё гадали по курице. Ставили её на пол. Если курица пошла под Божий угол, где висели иконы, так умрёт этот человек. Скажут: «Бог его к себе забрал». Если курица пошла к двери, девица замуж выйдет в этом году. Даже песни пели:
Как же так случилось, я без тебя жила?
Сколько ж настрадаться пришлось мне без тебя.
Суженый мой, ряженый, я тебя ждала!
Суженый мой, ряженый, я тебя нашла!
А с Мишой мы уже были знакомы. В те времена на Масленицу устраивались забава: бились стенкой улица на улицу, село на село. Чья улица сильнее. Кто победит, тот берёт девочку. Миша победил и выбрал меня. Хотя он и раньше уже присмотрел меня. Тогда ему ещё не было двадцати, он работал писарем в сельской управе. Заслали сватов. Они зашли и от порога запели:
У нас петушок, у вас курочка.
Кошку под стол, невесту за стол.
А с моей стороны отвечали:
Рано выходить детке.
Замужем не золото, ту же грязь месить…
Такие были обычаи. Когда собирались к невесте тысяцкий-крестник, запрягал тройку лошадей. Кони разукрашены, сбруя хорошая, кошёвки бравые. И по улице со стрельбой из ружей! После свадьбы молодых уводили на подклеть. А утром жених выносил простынь, показать, честная ли она ему досталась. Бывало и так, воробья убьют, разорвут да выпачкают простынь. Чтоб отца не прогневить.
– А зачем пачкать? – по-простецки, невинным голоском спрашивал я.
Бабушка испуганно ладошкой закрывала свой морщинистый рот: «Зачем? Зачем? Тебе ещё рано знать! Совсем разболталась тут я. Твой дед налетел, как коршун! Ну разве можно было такому отказать! Вот он с тех пор и со мной», – кивнула на портрет бабушка.
На стене в большой комнате деда, которая при планировке дома, должно быть, задумывалась для сбора большой семьи, – как память от прежних времён, – под стеклом висели фотографии. На одной из них я отыскал бабушку и своего отца, где его, маленького, в платье, стриженного налысо, обнимала молодая и красивая баба Мотя, которая впоследствии станет Матрёной Даниловной и как она сама мне подскажет, что это именно она, а не кто другой.
Бабушка показала ещё одну фотографию, где моему отцу было года три или четыре, рядом с ним на резной лакированной лавочке стоял младший брат Иннокентий. На них были длинные, по колено, рубахи, вместо привычного ныне ворота, были вязаные, лежащие на плечах белые кружевные воротнички, а на ногах – полосатые рейтузы. То, что это были мальчики, выдавала короткая, под Котовского, стрижка, и слева на полу стояла сестрёнка Надя, на ней было светло-серое, с таким же белым вязаным воротничком, платье. И у неё были длинные, собранные узлом на затылке волосы.
Среди других фотографий я находил бабу Мотю, и было ей на снимке лет десять, тогда она училась в епархиальном училище, и я не мог себе представить, что на фотографии она гораздо моложе меня, нынешнего, одета, как и другие «епархиалки», в строгое чёрное платье до пола, и в таких же чёрных платочках все участницы церковного хора.
– Это мы перед выступлением в дворянском собрании, – рассказывала она. – Из Петербурга к нам приехал какой-то важный чиновник, вот нас и пригласили выступить. Мы потом долго обсуждали, кто и во что был одет, особенно нравились нам женские наряды городских барышень, причёски, белые кофточки, вуальки, стук каблучков. Мы пели «Херувимскую песнь», «Милость мира», а в конце – «Свете тихий».
По центру семейной фотовыставки была фотография отца бабушки – Данилы Андреевича. Он был в чёрной рясе, с большим крестом и серебряной цепочкой на груди, а справа от него на табуретке, крепко уперев обутые в яловые сапоги ноги, сидел его брат, Алексей Данилович. На нём была справная, хорошего сукна тёмная косоворотка и такие же штаны. Оба брата сидели, облокотясь на круглую лакированную тумбочку, крепкие, оба здоровые, знающие себе цену, и смотрели прямо в нынешнее время. По фотографиям было видно, что братья Ножнины из зажиточных. Ну и, конечно же, не то что одетые, а разодетые в расшитую тёплую и крепкую одежду: моя пробабка Анна с Осипом Ивановичем, который был родом со слободы Самара Вальцовского уезда Воронежской губернии. Также были фотографии самого деда в военной гимнастёрке времён Первой мировой войны с германцами; рядом с ним бородатые боевые сослуживцы – офицеры царской армии. Мне даже казалось, что, рассматривая фотографии, я ощущаю запах казённого сукна и солдатского пота. Особенно мне нравилась фотография, где они были с бабой Мотей ещё молодые, дед в казачьей форме старшего урядника. На фотографии глаза у него пронзительно строгие, а на голове бабушки – белый чепчик и кроткий, добрый взгляд. Под фотографией значился 1917 год, время, когда закончила свои дни Российская империя, а судьба деда и всей его большой семьи потекла в иную сторону.
Я видел, что мой приезд в Куйтун стал для неё некоторым облегчением, появился не только помощник, но в какой-то мере и добросовестный слушатель. От чтения вслух про маленькую бабушку меня спасала Любка. Она без стука влетала в дом, смотрела на меня, сидящего за книгой, лицо её становилось озабоченным. Бабушка прикладывала палец к губам, тем самым давая понять, что читающего человека отвлекать нельзя. Любка кивала головой, присаживалась на лавку, но усидеть долго не могла, начинала крутить головой и ёрзать на одном месте, но было и так видно, что сегодня она никуда не торопится, отец на работе и домой вернётся не скоро.
– Всё, на сегодня хватит, – прерывала бабушка. – Прямую речь надо читать с выражением, так, будто ты находишься рядом и разговариваешь, как со мной, громко или тихо доносишь до слушателя смысл всего происходящего. А теперь можешь идти по своим делам.
Зная, что Любка стесняется петь при мне, я захлопнул надоевшую «Бабушку» и, прихватив с собой «Хинельские походы», вышел на крыльцо. Но и оттуда было слышно всё, что происходило в доме.
– Любаша, сегодня мы поговорим про акапельное пение. А потом порепетируем, – привычным учительским голосом вела занятие бабушка. – Название акапелла пришло к нам из Италии. С тех пор акапелла называют любое вокальное исполнение без инструментального сопровождения. По своей сути, это церковное пение, хвала Богу, человеческим голосом, без всяких баянов и гармошек.
Я уже догадывался, что эти занятия, которые она устраивала нам, заполняют её одиночество, что привычное ежедневное застолье и разговоры большой семьи закончились для неё внезапно и навсегда. Она не знала, куда деть себя, когда все разъехались, даже не разъехались, а разбежались. Всё, что она накопила и несла в себе, стало вдруг ненужным. А тут подъехал я, и ещё подвернулась под руку Любка!
Особенно баба Мотя любила вспоминать, как её отец встречал возвращающегося из Японии наследника престола цесаревича Николая и как она ещё маленькой девочкой пела в церковном хоре, а потом случилось главное: она повстречала Мишу, а через несколько дней её сосватали, и священник в кимильтейской церкви надел ей на палец золотое кольцо.
– А спустя три года я проводила Мишу на войну, – вздыхала бабушка. – На руках у меня уже было двое: Надя и твой будущий отец – Коленька. Слава богу, что Миша вернулся с войны, хоть и был несколько раз ранен. Ты на него не серчай, он же был контуженный в Галиции, едва жив остался, больше месяца провалялся в лазаретах. Жили мы в Кимильтее большой семьёй. В других семьях тоже было немало детей, но такой семьи, как у нас, не было… А потом в Петербурге началась революция, а за нею голод и смута. Здесь у дороги всё и происходило, шли каппелевцы, потом пленные чехи по-подлому арестовали адмирала Колчака и выдали его красным. Недавно я слышала, что им в аренду на много лет отдали Байкал. Поверь моему слову, всё вычерпают – и поминай как звали. Они возвращались в свою Чехию через Владивосток, из Иркутска увезли много купеческих девок, для виду сыграв с ними свадьбы. А потом, когда отъехали за Байкал, начали их ссаживать. И поплелись, потащились на перекладных горемычные обратно. Всё тащили, что можно и что нельзя! Когда они зашли в наше село, у дяди Алексея хотели коня забрать. Тот воспротивился, силушкой его Бог не обидел. Они навалились на него скопом, повалили на землю, избили до полусмерти и бросили в колодец. Слава богу, после вытащили его соседи. Даже песня такая была:
На нас напали злые чехи,
Село родное подожгли…
– Твой дед прав, чужое брать не надо, – помолчав немного, продолжила она. – Этот объектив был нашим кормильцем и поильцем. Был такой случай. Однажды осенью Михаил возвращался в Куйтун. Было уже темновато. И вдруг из-за кустов выстрел, и вслед за ним выскочили какие-то люди. В руках обрезы. Выкинули отца из кошёвки, и возчика лицом в землю. Вытряхнули всё, а там картошка, яйца, мешок пшена… Из мешка достали дорожный фотоаппарат, которым он снимал.
– Деньги есть? – спрашивают.
– Всё, что есть – перед вами, – ответил Миша.
– Чё с ними делать будем? – говорит один.
– Да чё, в расход их. Нам свидетели не нужны.
– Мужики, побойтесь Бога! У меня семья, дети, – стал уговаривать Миша.
И тут паренёк, который вёз отца, вскочил и бросился бежать. Разбойники спустили на него собаку. А у Михаила за пазухой был револьвер. Он его во время таких поездок по сёлам брал на всякий случай. Времена были непростые, по отдалённым деревням и заимкам не только волки попадались. Михаил выхватил револьвер и буквально на лету застрелил собаку и тут же навёл оружие на грабителей, приказав им бросить ружья на землю. Те остолбенели. Отпустил твой дед бандюков, не стал брать грех на душу.
– Баба, а где этот револьвер сейчас? – заинтересовался я.
– А это тебе зачем?