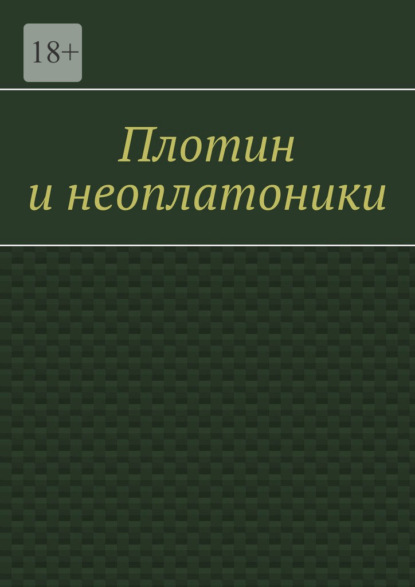По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Плотин и неоплатоники
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Природа – это движущая сила мира-души в смысле genitivus subjectivus, материи – в смысле genitivus objectivus. Рожденная от мировой души, как свет рождается от огня, она относится к умопостигаемой субстанции так же, как мировая душа относится к интеллекту, т. е. она есть пассивная возможность или субстанция мировой души, и в то же время она представляет собой форму чувственной субстанции (III 8, 2). Ибо природа получает свою судьбу только через иррадиацию или запечатление со стороны мировой души, так же как последняя обязана своим содержанием только освещению со стороны интеллекта; она действует, таким образом, только от имени последнего, при посредничестве мировой души. Но в то время как вверху она ведет себя чисто принимающим или страдательным образом, внизу она ведет себя отчасти действующим, отчасти страдательным образом, так как она формирует субстанцию в соответствии с идеями, излучаемыми в нее сверху, но в то же время она определяется и ограничивается отличной от нее субстанцией (V 9, 6; IV 4, 13; n 3, 17).
Природа, таким образом, творит в соответствии с идеями, как и мировая душа, от которой она получает эти идеи. Ее творение – это созерцание: Плотин называет природу «созерцающей природой». Глядя, она творит, а творя, она смотрит, причем так, что деятельность или сила творения является чисто как таковая, без всякого замысла и всякого знания, а содержание взгляда дается ей только через просвещение мировой души (IV 4, 13; III 8, 2; II 3, 17; III 8, 7). Однако видение природы не следует понимать как сознательное, понятийное или рефлектированное. Ведь рефлексия предполагает не-бытие; природа же имеет то, что она есть, ее бытие – это ее делание, и поэтому ее творческая деятельность – это тоже непосредственное созерцание (III 8, 3; IV 4, 11). Поэтому, если бы кто-нибудь приписал ей понимание или сознание (??????? ???? ? ????????), то это было бы не такое сознание или понимание, какое мы в иных случаях приписываем вещам, но это было бы подобно сознанию сна по отношению к сознанию бодрствования. Поэтому природа – это спящий дух, по выражению Шеллинга; она действует бессознательно (??????????) (III6,4). Она покоится, говорит Плотин, в созерцании своего собственного созерцания и является безмолвным и темным созерцанием по отношению к созерцательному содержанию мира-души, образом которого она является (III 8, 4).
g) Первозданная субстанция.
Поскольку природа есть энергия мировой души и во всех отношениях зависит от нее, она тоже принадлежит к той же сфере бытия; это последняя ступень умопостигаемого (IV 4,13). Субстанция же, на которую она действует и на которой впервые раскрывается ее действенность, полностью выходит за пределы этой сферы и является антитезой интеллигибельного.
Теперь мы описали интеллигибельность как абсолютную энергию, эффективность и реальность par excellence. Следовательно, мы должны определить субстанцию как чистую возможность, dynamis в абсолютном смысле. Правда, мы также определили Единое как абсолютный динамис, и мы также провели различие между энергией и динамисом в интеллигибельном; но здесь последнее всегда должно было быть взято только относительно:
то, что в умопостигаемом есть нечто в смысле возможности, является таковым только по отношению к другому, превосходящему его, и в то же время всегда есть также нечто в смысле актуальности, действительно, является актуальностью par excellence; и точно так же все остальное, что ведет себя как возможность, есть в то же время нечто актуальное в другом отношении, как, например, руда, из которой должна быть сделана статуя. Только субстанция в актуальном смысле, о которой здесь идет речь, первоначальная субстанция, как мы хотим ее назвать, есть чистая возможность, не что-то одно, но все в соответствии с возможностью. Это всего лишь пассивная возможность, тогда как Единое мы представляли себе как активную возможность par excellence, как абсолютную способность. Но поскольку оно не есть ничто из существующего, ничто из сущего, оно, следовательно, есть также несуществующая, нереальная вещь. И если оно, тем не менее, претендует на существование, более того, даже претендует на то, чтобы быть предельно реальным, то мы должны охарактеризовать его как простую видимость, как обманчивую иллюзию. Интеллигибельное – это действительно реальное, более того, даже истина. Первозданная субстанция, с другой стороны, есть ложь par excellence; ее истина состоит в том, чтобы не обладать никакой истиной, ее действительное бытие есть чистое небытие (II 5, 4 и 5).
Но как же тогда мы начинаем считаться с субстанцией как принципом? Мы научились познавать мышление как разделение и разложение данного. Однако всякое разложение в конечном счете приводит к чему-то простому, что само уже не может быть разложено, но скорее составляет условие или основание множественности и, следовательно, разложения; и это как раз и есть субстанция в абсолютном смысле. Все определения объекта «концептуальны», то есть имеют ментальную или логическую природу, и могут быть прослежены до логических отношений. Однако, таким образом, они предполагают нечто, к чему обращаются, что составляет основу отношения и, следовательно, само не может быть отношением. Если мы абстрагируемся от всех содержательных определений объекта, мы наталкиваемся на темную землю, которая освещается, так сказать, логическими понятиями (?????), подобно тому как цвета появляются только благодаря темной земле. Именно эту темную землю или первооснову мы называем субстанцией (II 4, 5). Но теперь только форма, логическая, понятийная, когнитивная или мыслительная, может быть мыслима и быть объектом познания. Следовательно, мы можем познать субстанцию, как противоположность всему этому, только через ее противопоставление логике или форме (18, 1).
Поэтому мы должны отделить форму от сущности в мысли, мы должны отбросить все возможные формы, более того, мы должны перестать мыслить самих себя, так сказать, «мыслить не-мыслить», если мы хотим мыслить изначальную сущность. «Вот почему ум, – говорит Плотин, – перестает быть самим собой, он становится не-умом, когда пытается увидеть то, что не принадлежит его природе. Он подобен глазу, который удаляется от света, чтобы увидеть тьму, которую он не может видеть; ибо без света он не может видеть, но он может видеть, так что ему кажется, будто он видит тьму. Так и дух отказывается от своего внутреннего света и выходит из себя в то, что чуждо его природе, не принося с собой своего света, и позволяет противоположному своей природе воздействовать на него, чтобы увидеть свою противоположность» (I 8, 9). Только через то же самое можно познать то же самое, и поэтому бездумное может быть познано только через бездумное. В этом смысле Плотин также называет идею субстанции «ложной», не познаваемой через понятие и мысль, но образованной из другого, не истинного, а с понятием другого, и утверждает вместе с Платоном, что она может быть постигнута только через некий «ублюдочный разум». От реального наглядного мышления, однако, образование понятия субстанции отличается тем, что здесь еще мыслится нечто положительное, мышление здесь как бы страдает, как если бы наша душа получала впечатления от бесформенного. Таким образом, насколько ясным и отчетливым является представление о качествах или определениях предмета, настолько же неясным и запутанным является представление о его материальном субстрате. И настолько это представление противоречит природе нашего мышления, что, подобно тому как материя не остается бесформенной, а принимает в вещах определенную форму, так и мы, со своей стороны, сразу же добавляем к ней форму некоторых вещей, поскольку испытываем боль от неопределенного и не можем долго задерживаться на несуществующем (18, 1; II 4, 10).
Иными словами, понятие субстанции формируется только в противовес мышлению или логике. Субстанция – это лишь «тень и отступничество от понятия» (VI 3, 7), более того, даже не теневой образ понятия, а его абсолютная противоположность (II 5, 4); это алогичное как таковое. Разумеется, как мы видели, существует и умопостигаемая субстанция. Но в ней субстанция и форма непосредственно совпадают в одно целое; она, следовательно, есть всецело жизнь, мысль и решимость. Эмпирическая же субстанция, которая сначала получает всю форму от этой субстанции, есть лишь «некий украшенный труп», поскольку она сама по себе лишена жизни и всякой детерминации. Интеллигибельная субстанция есть сама реальность как таковая и принцип всей реальности вообще. Первичная же субстанция в том смысле, который здесь имеется в виду, есть лишь принцип эмпирической реальности, или, вернее, поскольку она сама не имеет реальной действительности, принцип видимости, и ее значение состоит лишь в том, чтобы низвести мир чувств до уровня нереальности и видимости (H 4, 5 5 VI 3, 7).
Поскольку материя, как мы уже говорили, неопределенна, она также не обладает ни качеством, ни количеством, которые скорее принадлежат только детерминированной материи, т. е. телу; но сама материя не есть тело (I 8, 10). Поэтому сама по себе она ни цветная, ни бесцветная, ни теплая, ни холодная, ни тяжелая, ни легкая; она лишена всякой массы, является лишь приложением к массе или «симулякром массы», пуста, невидима и бесплотна, неопределенна или, что то же самое, бесконечна par excellence, неограниченна, поскольку всякое ограничение и определенность исходят из мысли. Субстанция – лишь основа всего этого. Она нуждается в мысли, в идее, чтобы стать всем этим. Сама она, однако, не является ничем из всего, открыта для всех форм и определений точно так же: одинаково направляемая во все стороны, материя готова принять все определения; в этом отношении ее можно также назвать бедностью par excellence, высшей потребностью бытия и его конкретного содержания (II4, 8 – 16; ср. также III6, 7).
Но на вопрос, как то, что само по себе не оказывает никакого ощутимого давления, не оказывает никакого сопротивления, невидимо, более того, само лишено реальности, может, тем не менее, быть основой мира тел, Плотин напоминает, что в случае тел существование в большей степени, чем у покоящейся земли, принадлежит тому, что подвижно и менее весомо, под чем он подразумевает огонь. Чем более независимым и подвижным является нечто, тем менее обременительным оно является для других. С другой стороны, более тяжелые и приземленные вещи, которые неполноценны и слабы и не могут сами себя поднять, падают в результате своей слабости, оказывают чувствительное давление своим весом и неуклюжестью и тем самым доказывают отсутствие у них независимости, силы и эффективности, а значит, и реальности. Чем более физичен объект, тем менее он реален. Отсюда вновь вытекает извращенность тех, кто помещает существование в физический мир, ссылаясь на механическое воздействие и принимая впечатления чувственного восприятия за доказательство истины. Подобно сновидцам, они считают реальным то, что видят, тогда как на самом деле это всего лишь образ сна. Однако в то же время это соображение подтверждает утверждение о единственной реальности умопостигаемого (III 6, 6).
Подводя итог, можно сказать, что сущность материи – это безмерность по отношению к мере, неограниченность по отношению к пределу, бесформенность и неопределенность по отношению к тому, что формируется и определяется. Материя – это то, что всегда в нужде, нигде в покое, вседостаточное, неудовлетворенное. Но в этом же заключается и сущность зла. Поэтому субстанция есть в то же время зло, и не просто зло, а зло par excellence, зло само по себе, абсолютное зло или первозданное зло, принцип всякого зла и всякого нечестия, которое не имеет никакой части в добре, поскольку ему нельзя приписать даже существование, и через участие в котором все остальное становится злом так же, как оно становится добром через участие в добре. Ибо то, что алогично по своей сути, оказывается антилогичным в эмпирической реальности. По мнению Плотина, это видно уже в природе тел, которые разрушают себя беспорядочным движением, которое они испускают, находятся в вечном движении, лишены субстанции, а значит, истинной реальности и сущности, и препятствуют душе в ее особой деятельности. Об этом свидетельствуют и страсти, которые, как мы увидим более подробно, основаны на соединении души с телом, на загрязнении принципа формы принципом субстанции. Действительно, согласно Плотину, материя настолько дурна, что не только сама неотделима от блага, представляя собой чистое отрицание и его отсутствие, но и делает дурным и злым то, что еще не соединилось с ней, а лишь склоняется к ней и направляет на нее свой взгляд (I 8, 3 f.). Если поведение элементов по отношению друг к другу, постоянный переход от формы к форме без разрушения самих форм доказывает существование субстанции, отличной от формы, то эта субстанция, поскольку она образует принцип становления в природе, понимаемый с этической точки зрения, есть зло (II 4, 6; I 8, 4).
Тот факт, что формирующая идея, которая входит в субстанцию и тем самым делает ее определенной и реальной, сама не обладает действенностью, а является лишь пассивным отражением истинно реального, прямо следует из того, что она связана и ограничена материальным существованием. Если материя – это только видимость, «летучая пьеса», как выражается Плотин, то и процессы в материи на самом деле тоже лишь пьеса, образ в образе, как предмет в зеркале, который находится в другом месте и появляется в другом месте: внешне исполненная, материя не имеет ничего; внешне оживленная и определяемая формами, действующими на нее и на нее, на самом деле не имеет никакого эффекта. Напротив, как то, что мы видим в материале, является лишь иллюзией, подобно образу во сне, образу в воде или зеркале, так и сам материал не страдает, потому что он определяется формой. Поэтому субстанция не может быть уничтожена. Ибо всякое уничтожение основано на привязанности к чему-то противоположному; субстанция же остается тем, что она есть, и стоит, так сказать, безразлично в борьбе взаимоуничтожающихся противоположностей. Плотин сравнивает определение материи формой с отпечатком фигуры на воске или с нагреванием камня огнем: как здесь воск и камень остаются неизменными и оба не несут никаких потерь, так и материя остается незатронутой изменением происходящих в ней процессов. Тепло и холод развиваются в ней, но сама она не становится ни горячей, ни холодной. Взаимодействовать может только противоположное, определенное, множественное. Но то, что само по себе неопределенно, просто и не имеет противоположностей, не может иметь никакого эффекта. Поэтому страдает не субстанция, а лишь то, что представляет собой смесь субстанции и формы: качественно определенная субстанция тела, которая отказывается вбирать в себя другие противоположные детерминации. Субстанция, однако, является принципом становления и, следовательно, изменения, но сама она так же неизменна, как и идея, поскольку в противном случае она не могла бы быть основой всех изменений (III 6, 7—10).
Но как субстанция на самом деле вбирает в себя формы или идеи, не изменяясь и не подвергаясь их воздействию и не выходя из себя, трудно сказать что-либо более определенное. Несомненно лишь то, что эта аффектация лишь кажущаяся: не будучи вылепленной, материя принимает формы, не сжигая себя, она становится огнем. Она бежит от формы, ибо обладает ею, как если бы ее не было. Она, как называл ее Платон, – всеобщее приемное место, кормилица или утроба становления, но сама она не становится, она находится до всякого становления и всякого изменения, как бы «место форм», и сама не затрагивается ими. Его сущность – не быть узией, не быть субстанцией, не быть твердой и независимой, тождественной вещью, но всегда только другим; и оно сохраняет эту инаковость, которая по сути принадлежит ему, даже когда формы входят в него.
Но сами они входят в него лишь как образ: ложно, они входят в ложь. Они напоминают, как я уже сказал, образы в зеркале и исчезли бы, если бы отраженные объекты, идеи, ослабли. Да, даже уподобление зеркалу все еще неточно. Ведь зеркало остается, когда исчезают зеркальные образы; но с исчезновением идей субстанция также стала бы невидимой. Субстанция как таковая вообще не воспринимается ни вместе с объектами, ни без них. Воспринимаются лишь идеи в их пассивном отражении в субстанции. С другой стороны, последние также не воспринимались бы, если бы не было субстанции для их отражения, поскольку именно в том и состоит суть образа, чтобы быть в другом. Поэтому с материей дело обстоит так же, как и с освещенным воздухом, которому для того, чтобы быть видимым, необходим свет. Сам по себе абсолютно пустой и лишенный блага, он не может оставаться без доли в благе. И вот происходит «чудо»: не причащаясь, она приобщается к нему и, не прикасаясь к нему, наполняется благом через соседство с ним. В этом смысле Плотин сравнивает материю с гладкой, ровной поверхностью, по которой, как эхо, скользит все, что приближается к ней извне; именно благодаря этому идеи становятся видимыми, а материя – причиной творения и распада. Но то, что она сама не затрагивается приходом идей, объясняется абсолютным различием их взаимной природы, в результате чего то, что приходит, ничего не берет от нее, а она – ничего от него. Так и субстанция принимает размеры, сама не становясь большой. Если бы, таким образом, вся эта вселенная, размер которой также является ее собственным размером, исчезла, то исчез бы и весь размер вместе со всеми его другими свойствами, а субстанция осталась бы тем, чем она была, не сохранив никакой цели.
Размер – это тоже форма или идея. Каждая вещь получает определенный размер, потому что она расширяется силой того, что в ней видится, и создает для себя пространство; эта сила приходит из умопостигаемого мира и вызывает появление размера при посредничестве материи. Только форма порождает. Субстанция же, напротив, бесплодна и является лишь пассивным условием порождения. Субстанция как таковая тоже не возникает, но является лишь условием возникновения для чего-то другого. При более глубоком созерцании она обнаруживает себя как нечто, от чего отказалось все сущее, да, впрочем, и вся видимость реальности. Распространяясь на все, она, казалось бы, следует за всем и в то же время не следует ни за чем. Субстанция – это абсолютная необходимость бытия в соотношении с отраженной в нем свободой умопостигаемого. Все существующее есть смесь свободы и необходимости, духа и субстанции, которые не имеют между собой абсолютно ничего общего, никакого третьего, в чем бы они совпадали, но стоят как бы в сущностной оппозиции друг к другу, не имеющей ничего общего ни с понятием свойства, ни с понятием вида (III 6, it – 19; I 8. 6 и 7).
На самом деле материя во всех отношениях оказалась противоположна умопостигаемому. Она противостоит Единому как условие и, как бы, как место разделения и множественности, добру как злу, абсолютной возможности как абсолютной возможности, реальному как нереальному, детерминированному как неопределенному, формирующему как тому, что должно быть сформировано, живому как мертвому и так далее. Таким образом, она является последней в последовательности стадий метафизических производств. Но его необходимость вытекает из того, что благо как таковое не может оставаться в одиночестве, но должно сообщать себя, выходить из себя, отдаляться от себя. В соответствии с этим должно существовать и конечное, наиболее удаленное от Единого, после которого ничто больше не может появиться; и это как раз и есть субстанция (I 8, 7). Таким образом, Плотин считает, что он установил плавный переход между Единым и Многим, умопостигаемым и чувственным, между духом и природой, и полагает, что он вывел последнее из первого чисто логическим путем, решив тем самым фундаментальную метафизическую проблему античной философии со времен Платона – как природа может составлять единство с духом: Единое = абсолютная способность = форма (энергия) интеллекта Субстанция (возможность) Единого = форма (энергия) мира идей = субстанция (возможность) интеллекта = форма (энергия) мировой души = субстанция (возможность) мира идей (умопостигаемой субстанции) = форма (энергия) (слепой) природы = субстанция (возможность) мировой души = форма разумной субстанции = абсолютная возможность. Что Плотин здесь всегда предполагает материальность, что в своем априорном выведении чувственного мира явлений из умопостигаемого мира он лишь заменяет чувственно воспринимаемую субстанцию, которая, согласно античному воззрению, образует субстрат конечных вещей, субстанцией Аристотеля, гипостазированной простой возможностью, То, что Плотин меняет материал Аристотеля, гипостазированную простую возможность, на материал Аристотеля, гипостазированную простую возможность, и только таким образом сохраняет видимость чисто логической деривации, остается за его пределами, как и невозможность независимости различных понятийных уровней, в результате чего развитие или развертывание многих из одного предстает перед ним натуралистическим образом как выпадение из одного и нисхождение из него.
В обоих отношениях Плотин остается в предрассудках античного образа мышления. Более того, он уже отрезал возможность реального союза духа и природы тем противоречивым способом, которым он определил необходимое условие природы, реальный принцип феноменального мира. Этот принцип Плотин, как и вся античная философия, находил в материи, простой абстракции чувственно воспринимаемого. Понятие реальности, безусловно, связано с понятием действенности, ибо реально только то, что активно. Чувственная же субстанция сама по себе является недейственной и, следовательно, не может установить никакой реальности, даже реальности лишь кажущегося мира. Противоречием было и остается то, что материя должна быть образована идеями и опосредовать их появление, хотя она не должна быть ни способностью, ни вообще обладать каким-либо бытием. Без идей субстанция не может стать реальной, без субстанции идеи не могут появиться. Но Плотин, как и Аристотель, не знал, как объяснить, каким образом внутренне нереальная субстанция может помочь идеям появиться, как внутренне активные идеи могут стать пассивными через союз с неэффективной субстанцией и тем самым возвысить субстанцию до реальности. Античная философия приписывает определение реальности миру идей или божеству в силу его действенности, а затем, разумеется, не оставляет реальности для мира явлений, поскольку не в состоянии отделить его от материальности и ее пассивности. Вместо того чтобы представить пассивную чувственную материальность как просто субъективную концепцию, которая сама по себе не отменяет реальности того, что ее вызывает, его принципиальный натурализм и эпистемологический наивный реализм приводят к тому, что он предпочитает отрицать реальность всего феноменального существования в целом. При этом, однако, он просто соскальзывает с натурализма, которого стремится избежать, в противоположную односторонность абстрактного идеализма и монизма, не будучи в состоянии объяснить даже простое возникновение этого существования.
e) Корректировка плотиновской доктрины принципов.
Реальный принцип феноменального мира должен сам быть действенным, чтобы установить реальность его существования. Следовательно, он не может быть просто пассивной возможностью, как утверждает Плотин, но сам должен быть активной способностью, посредством которой устанавливается конечное. Однако сам Плотин совершенно верно определил активную способность как волю. Таким образом, не субстанция и не чистая пассивность разумного как такового, а только воля в ее активности как воления может стать основанием конечной реальности и поднять ее из сферы простой видимости в сферу истинного бытия. Плотин сам придерживается этой точки зрения в некоторых местах своих рассуждений о субстанции, например, когда он описывает несуществующее как «стремящееся к существованию», как «всегда нуждающееся», «облегчающее», как неудовлетворенное желание и голод, требующие удовлетворения через идею, и соглашается с мифом, когда представляет субстанцию как просящую (III 6, 7; I 8, 3; III 6, 14). Почти все, что Плотин говорит о субстанции, о ее неопределенности, пустоте, безмерности, бесплотности, бесконечности и т. д., имеет смысл, только если понимать это понятие не как пустое неопределенное пространство, поскольку само пространство принадлежит к идеальным детерминациям, а как волю в шопенгауэровском смысле этого слова. Воля – это действительно то, что алогично, что действует антилогично через свое воление или деятельность и находится в сущностной оппозиции к логической идее. Ее осуществление или определение идеей не следует понимать как страдание или воздействие, но как непосредственный союз двух противоположностей, которые реальны только в этом единстве, и при котором идея ведет себя так же пассивно, неэффективно и бессильно, как воля представляет себя как сила реализации и, таким образом, появления идеальных определений. Только предрассудок чувственной субстанции, от которого Плотин, несмотря на все его усилия в направлении чисто духовного взгляда на мир как носитель эмпирической реальности, не может освободиться, мешает ему выразить это и снова и снова искушает его свести первооснову чувственного существования к пассивному и совершенно недуховному принципу (VI 7, 28). Но, конечно, соединение воли и идеи перестает быть «чудом» только в том случае, если предполагается их субстанциальное единство и тождество. Но именно этого Плотин и не может признать, поскольку реальное основание феноменального мира, как и умопостигаемые ипостаси, он также представляет себе как самостоятельную субстанцию, как изолированное существо, отдельное от всего остального (III 6, 8).
На самом деле реальный принцип феноменального мира как пустое, неопределенное, «слепое» воление в точности соответствует так называемой «природе» Плотина, которую мы привыкли понимать как действенность или энергию мировой души, олицетворение идеальной вселенной, видимой в пространстве-времени. Природа также должна была быть неопределенной сама по себе и получать все свое содержание только от идеальной или логической деятельности мировой души, по отношению к которой она вела себя в этом отношении как «субстанция». Таким образом, сама мировая душа есть не что иное, как пространственно-временное содержание интеллекта или мира идей в его реализации через деятельность слепой воли. Рассудок же есть совокупность идеальных детерминаций в том виде, в каком они предстают до и помимо их реализации посредством воли. То, что интеллект, в определенном таким образом смысле, актуализирует как вечную взаимосвязь то, что реализуется миром-душой через посредничество природы как сопоставление и последовательность, это мнение Плотина, конечно, не может быть поддержано. Сама идея вечного актуса, вневременной функции, непостижима; а идея одновременного видения и реализации всех возможностей содержит в себе неустранимое противоречие и потому не может считаться выражением чистого разума. Но плотиновское понятие умопостигаемой субстанции приобретает реальный смысл только в рамках указанной выше концепции интеллекта, а именно как потенции воления, которая вместе с потенцией мышления или видения составляет Единое.
Таким образом, Единое действительно является активной возможностью или всевозможностью, волей, которая реализует Единое через переход к волению или действенности. Но в то же время оно есть и пассивная возможность всех вещей или всевозможность: интеллект, вечная логическая система отношений всех возможных идей, формально-логическая необходимость или логический формальный принцип, посредством которого в случае волевой деятельности содержание и порядок идей определяются и развертываются в идеальное содержание мира-души. Не стоит опасаться, что эта концепция нарушит единство субстанции. Ведь обе детерминации касаются не субстанции как таковой, а лишь ее атрибутов. Субстанция же остается не менее единой и тождественной самой себе, поскольку объединяет в себе большинство выразительных детерминаций.
Таким образом, результатом имманентной критики плотиновского учения о принципах является единая субстанция с двумя атрибутами, интеллектом и волей, пассивной и активной возможностью или факультетом. Сам Плотин представляет себе интеллект как реализацию того, что есть Единое в состоянии простой возможности: энергия интеллекта предполагается как воление Единого, содержание восприятия интеллекта или мир идей – как потенциальная множественность в состоянии ее актуальности или как волевая множественность. Но если интеллект в своем единстве с волей представляет лишь атрибутивную возможность Единого как в пассивном, так и в активном смысле, то это только мир-душа, а не интеллект, в котором реализуется Единое. Таким образом, воление происходит не в сфере интеллекта как такового, а в мире-душе. Идеальная возможность также не реализуется уже в интеллекте и не развертывается перед Единым как содержание созерцания, но поскольку актуализация этого содержания происходит только посредством воления, а оно принадлежит только мировой душе, мы можем говорить об активном интеллектуальном созерцании Единого только по отношению к последней.
Другими словами: как интеллект есть возможность мира-души как в пассивном, так и в активном смысле этого слова, так и мир-душа есть реализация интеллекта. Пассивная возможность интеллекта, т. е. еще неразвитая идея, соответствует в мире-душе развернутому содержанию идей, идеальному универсуму, бессознательному интеллектуальному представлению в пространственно-временной детерминации его содержания. Активная возможность, способность или потенция воления соответствует в нем активной функции воли, энергии в собственном смысле слова, которая, однако, сама по себе не есть видение и потому также не логична, но представляет собой слепую алогическую силу осуществления интеллектуального созерцания и тем самым, как я уже сказал, совпадает с тем, что Плотин отличает как природу внутри мира-души от логической детерминации последней. Следовательно, природа также не является продуктом видения, как это представляет себе Плотин; она не подчинена содержанию идей, а скоординирована, а именно как акт слепой воли, которая наполняется содержанием только благодаря идеальной энергии видения.
И именно здесь раскрывается сущность чувственно-физического мира. Он – продукт двуединой функции мира-души, целевое содержание идеи в ее пространственно-временном определении. Плотин объявляет этот мир лишь видимостью, потому что справедливо не может признать в его «основе», его «носителе», чувственно представляемой субстанции, никакой подлинной реальности и сущности. Но если, как мы видели, реальность этого мира основана на действенности воли и взаимодействии пересекающихся волевых актов, то мир не просто иллюзорный, а действительный мир видимости, поскольку узловые точки сталкивающихся волевых актов или проявлений силы как бы гипостазируются или делаются независимыми,
Поэтому на самом деле существует не большинство ипостасей, как утверждает Плотин, а только одна ипостась. Однако она не является сверхчувственной и трансцендентной реальностью, а совпадает с эмпирически обоснованной реальностью чувственного и физического существования. Таким образом, абстрактный монизм Плотина превращается в реальный конкретный монизм, который не отрицает существование мира ради реальности Единого, но находит реальность как таковую только в видимости, рассматривая Единое лишь как сущностное основание, на котором держится и определяется мир видимости. Плотин, однако, оторвался от этого взгляда, раздув атрибуты Единого в самостоятельные субстанции на античный манер и, таким образом, ища ипостась не там, где нужно, путая ее с принципами, и не сумев, в результате этого остатка натуралистического взгляда, правильно определить отношение субстанции к ее атрибутам. Но то, что не смог сделать величайший метафизик античности, который дальше всех отошел от натуралистической основы своей расы, не смогли сделать его гораздо более слабые ученики и преемники. Напротив, авторитет мастера держал их под чарами его учения в этом вопросе; а гротескное слияние плотиновских умопостигаемых ипостасей с тремя лицами Троицы со стороны христианства привело к тому, что ошибки Плотина смогли утвердиться на протяжении всего средневековья вплоть до наших дней. Только Спиноза, как уже указывалось, открыл понятие абсолютной субстанции, установил ее связь с модификациями, превратил ипостаси Плотина в простые атрибуты или определения сущности Единого и тем самым стал основателем новейшего пантеизма.
Однако и он не вышел за рамки абстрактного монизма, поскольку под влиянием картезианства приравнял абсолютное бытие к самосознанию и, следовательно, был вынужден свести мир видимости к иллюзорной видимости, далекой от абсолютного сознания. Для устранения этой ошибки потребовалось заново открыть принцип бессознательного в первоначальном плотиновском смысле; поэтому задачей Гартмана было лишь установить реальность конечного и, переосмыслив плотиновское учение о принципах в указанном смысле, установить подлинный конкретный спиритуалистический монизм, к которому до тех пор тщетно стремилась вся философия.
II Учение о категориях
С учетом всего сказанного мы можем представить концепцию Плотина о категориях или классах бытия в контексте. Исследование категорий было подготовлено еще пифагорейцами, затем энергично взято на вооружение Платоном и нашло свое первое последовательное изложение у Аристотеля. Но категории были также важным объектом размышлений в постклассической философии перипатетиков и стоиков. Плотин очень подробно рассматривал категории бытия, частично в контексте, а частично в различных отрывках своих сочинений. Первые три книги шестой Эннеады и шестая книга второй Эннеады прямо посвящены этой теме. Но он также часто возвращается к вопросам, относящимся к этой теме, и везде показывает, насколько глубоко он убежден в важности теории категорий. Он выступает против учения о категориях Аристотеля и стоиков не только из-за неадекватного определения отдельных категорий, которые они не отличали друг от друга, не приводили в необходимый контекст и не выводили должным образом, но прежде всего потому, что они не проводили достаточного различия между разумным и сверхразумным и применяли одни и те же категории к обоим.
Он сам стремится исправить все эти недостатки, придерживаясь мнения, что десять категорий Аристотеля действительны только для чувственного мира, но не могут быть применены к сверхчувственной, умопостигаемой сфере, и в то же время самым точным образом исследует, какие категории действительны в чувственном, а какие в сверхчувственном, в каком смысле одноименные категории могут быть действительны в обеих сферах и какие расхождения вытекают из этого.
а) Категории умопостигаемого.
Если мы начнем с категорий умопостигаемого, то Плотин не хочет признавать Единое, конечный и высший принцип бытия, категорией. Поскольку оно является абсолютным основанием бытия, а значит, прежде и выше бытия, неопределенно и неделимо, оно само не может быть описано как бытие, а значит, не может быть и как вид бытия, которое как таковое всегда содержит в себе большинство видов (VI 2, 3 и 9 и далее). Конечно, Плотин упускает из виду, что он сам не в состоянии поддерживать утверждаемую неопределенность Единого и что отрицаемая категориальная детерминация Единого на самом деле содержится в характеристике Единого как абсолютного основания и абсолютной субстанции реальности.
Согласно Плотину, царство категорий начинается только в сфере интеллекта, и здесь первой и самой важной категорией является умопостигаемое бытие как таковое, интеллект как бытие par excellence, умопостигаемая усия в ее составе бытия и мышления, которая включает все остальные роды и виды в качестве своих детерминаций. Интеллект – это чистое бытие. Однако как таковой он есть одновременно и чистая энергия, живая действенность или умопостигаемое движение, и это есть в то же время абсолютное постоянство или покой, поскольку интеллект лишь движется к самому себе и, несмотря на все дифференциации и развертывания во множественность идей, всегда остается одним и тем же в целом. В дополнение к бытию, покою и движению мы должны также включить тождество и различие или инаковость как существенные родовые понятия; и все это по той причине, что чистое бытие есть тождество мышления и бытия, чистое мышление есть интеграция мысли и мыслителя, а интеллект как таковой представляет собой тождество этих двух тождеств (VI 2, 6 – 8; VI 7, 13; VI 7, 39; V 1, 4; III 9, 3). Иными словами, категории интеллигибельного совпадают с теми определениями, которые мы рассматривали ранее как составляющие интеллект: Бытие, тождество и инаковость вместе с умопостигаемым покоем и движением, к которым мы можем добавить вечность, а также переплетение или множественность идеальных детерминаций, образуют категории умопостигаемого. Однако интеллект стоит над категориями, поскольку он как бы состоит из них и образует единство, включающее их в качестве своих детерминаций (VI 2, 18 и 19).
Согласно Плотину, числа оказываются продуктами умопостигаемого движения и покоя. Один соответствует тождеству или покою, два – движению или инаковости, три – тождеству покоя и движения (V 1, 4). В других местах Плотин также стремится объяснить двойку различием между мышлением и мыслью, единицу – единством обоих, тройку – различием между мыслителем, мыслью и мышлением, а множественность – внутренней множественностью содержания представления (V 6, 1 и 6; VI 7, 35; V 3, 5; VI 2, 6). В каждом случае бытие является множественным и тем самым порождает множественность и числа. Из умопостигаемых чисел, однако, затем возникают другие числа, которые определяются и измеряются ими (V 1, 5; VI 6, 15; VI 2, 6). Таким образом, число само по себе не является принципом вещей, как полагают неопифагорейцы. Оно не существует до умопостигаемой усии и само не является явным умопостигаемым определением. Однако оно вытекает из этих определений и в этом отношении образует архетип и определяющий принцип других чисел и величин, в то время как количество в собственном смысле слова не имеет места в умопостигаемом (V 6, 15; VI, 2, 13). Интеллигибельное или истинное число как таковое всегда ограничено, число существ и их архетипов точно определено.
Только субъективное мышление порождает бесконечное число, и поэтому ему нельзя приписать никакой истины (VI 6, 2 и 18). Бесконечным в истинном смысле является только творческая сила, а также первозданная субстанция: первая – в той мере, в какой она никогда не исчерпывается, вторая – в той мере, в какой она представляет собой неограниченное, лишенное всякой определенности (VI 2, 21; VI 5, 12; II 4, 15).
Как о величине или количестве в умопостигаемом можно говорить лишь постольку, поскольку оно имеет своим определяющим принципом число, так и в этой сфере не существует качества. Всякое качество основано на различии между простым и составным и как таковое всегда обусловлено случайностью. В умопостигаемом, однако, нет не только ничего случайного, но и никакого подобного различия. Ибо утверждаемое стоиками различие между узией как таковой и определением, дополняющим ее до качества, несостоятельно, поскольку завершением узии является не то, что к ней добавляется, а сама узия или сущность. Таким образом, интеллигибельное качество или качество как сущность и качество как случайное свойство не имеют ничего общего, кроме названия. Качество в собственном смысле слова – это страдание, тогда как сущность – это чистое действие, разумное движение, действенность. Можно признать только то, что все так называемые качества существуют в умопостигаемом как деятельность и что качество основано на особенностях, которыми идеи в умопостигаемом отличаются друг от друга (VI 2. 14 и 15; V 9, 14; II 6, 1 – 3; V 1, 4).
Но в умопостигаемом не должно быть не только количества и качества, но и отношения. Ибо это обязательно предполагает наличие Другого, к которому происходит отношение; но такого отношения в умопостигаемом не найти. Здесь только игнорируется, что интеллект на самом деле относится не только к Тому, что над ним, но и к субстанции под ним, что различия интеллекта сами являются отношениями и что его сущность, как мышления, состоит именно в представлении отношения как такового, пусть даже только в смысле чисто логического отношения. Само собой разумеется, что в умопостигаемом не может быть места и времени, определения пространства и времени, и что аристотелевские категории делания и страдания, обладания и лжи также должны оставаться исключенными из этой сферы. Все это – отношения и, следовательно, не должны рассматриваться как определения умопостигаемого бытия и родовые понятия этой сферы (VI 2, 16).
b) Категории разумного.
В умопостигаемом все едино: покой и движение, тождество и инаковость совпадают здесь в едином понятии бытия par excellence, умопостигаемой усии, и каждая часть является здесь как таковая одновременно и целым. В чувственном мире видимости, однако, это единство растворяется, детерминации интеллигибельного распадаются: тождество переходит в разделение, покой – в движение, бесконечное и целое становятся друг за другом в бесконечном ряду (гегелевская «дурная бесконечность»), самодостаточное целое превращается в целое, которое стремится к целому лишь по частям; и если там, в умопостигаемом, каждое есть все и по существу то, чем оно является, то здесь, в чувственном, часть отделяется от части, индивид от другого и получает свою особенность как чисто случайную определенность (III 7, 11).
Чувственный мир видимостей – это образ умопостигаемого мира. Следовательно, его детерминации также должны быть найдены в интеллигибельном мире, хотя и в многократно измененном виде. Интеллигибельная усия вообще, интеллигибельная категория бытия, соответствует чувственной усии в ее единстве формы и субстанции, интеллигибельная усия как сущность или сущностная характеристика соответствует качеству. Числу в умопостигаемом соответствует количество в чувственном, умопостигаемому движению соответствует чувственное движение в его различии как действие и страдание, постоянству соответствует чувственный покой. Время соответствует вечности в чувственном (III 7, 11), а пространство – умопостигаемому единству (V 9, 10). Только отношение не ставится Плотином в более тесную связь с умопостигаемым бытием; и только чувственные usia, количество и качество, а также движение и отношение должны рассматриваться как категории разумного в собственном смысле этого слова (VI 3, 3).
Что касается чувственной усии, то субстанция представляет собой умопостигаемое бытие, а форма – умопостигаемое движение. Место умопостигаемого покоя занимает инерция материи, место тождества – ее сходство, а различие находит свое отображение в различии или несходстве материальных объектов (VI 3, 2). Субстанция как таковая – столь же малый род, как и Единое, поскольку она не содержит в себе никаких различий и вообще не существует сама по себе. Это принцип или элемент, но не категория. Только единство субстанции и формы есть чувственное существование и может быть описано как usia, но и это только омоним, то есть в неистинном или переносном смысле. Поскольку чувственно воспринимаемое существование находится в постоянном движении, оно скорее становление, чем usia (VI 3, 2), и в любом случае является лишь иллюзией и теневым образом истинной умопостигаемой usia (там же, 8). Тем не менее, чувственная usia является категорией постольку, поскольку она образует основу, единую точку отношения всех остальных категорий разумного, а они лишь выражают нечто присутствующее в ней (VI 3, 4 – 8). —
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: