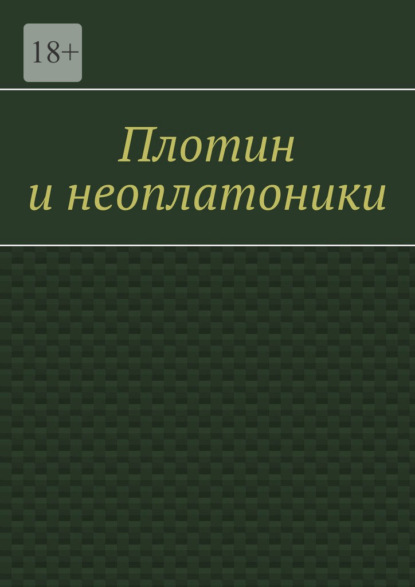По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Плотин и неоплатоники
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что толку, что теперь он прямо подчеркивает, что это следует понимать только в аналоговом смысле, что это делается лишь «для убедительности» в ущерб строгости мысли (VIS, 13), и добавляет «как бы» (????) к определениям умопостигаемого, которые необоснованно применяются к Единому? То, что оба они определялись как «бытие», включало в себя опасность их смешения и смешения только слишком сильно само по себе и невольно вело к путанице терминов. Чего только не предпринимал Плотин, чтобы понять понятие Единого в чистом виде и очистить его от всех предикатов рассудка! И вот теперь все сразу предполагается, что оно есть энергия, как таковая, мышление, как таковое, желание, как таковое, свобода, как таковая, причина себя [causa sui], как таковой хозяин себя, как таковая Усия, как таковая ипостась, и притом ипостась, которая сама себя поставила 1 (VI8, 13—18; 20 и 21). Правда, он стремится отличить Единое как «первую ипостась» от мира идей и тождественного ему интеллекта и тем самым придать ему более высокое значение (VI 8, 15). Но противоречие остается, и невозможность сохранить понятие Единого в его абстрактной обособленности, уберечь его от слияния с интеллектом, слишком ясно показывает фундаментальную ошибку всей этой концепции в насильственном разрыве двух понятий, которые принадлежат друг другу и зависят друг от друга.[36 - По этому поводу можно отметить, что точно такое же противоречие в концепции Единого, как и у Плотина, обнаруживается в Упанишадах, когда они, с одной стороны, определяют Брахман как несуществующее и отказывают ему во всех предикатах, но затем сразу после этого снова представляют его как существующее, из которого все происходит, снова приписывают ему необходимые для этого качества и пытаются оправдать эту последнюю процедуру «как бы» (iva) (ср. P. Deussen: «Allg. Geschichte der Philosophie mit bes. Ber?cksichtigung der Religion» (1894) Vol. I, 2nd Dept. 117 f. 144.]
c) Истинное отношение «ипостасей» друг к другу.
Если мы еще раз взглянем отсюда на рассмотренные ранее детерминации плотиновского мировоззрения, то его основное понятие, usia, очевидно, имеет три совершенно разных значения, которые необходимо тщательно различать. Во-первых, usia означает субстанцию, именно абсолютную субстанцию, как первооснову и носительницу всей реальности вообще, всеобусловленную необусловленность, которая как таковая находится до и вне реальности, то есть сверхсубстанциальна, предсознательна и сверхразумна, но из которой берет свое начало всякая действенность; в этом отношении субстанция есть одновременно и абсолютный субъект всякого функционирования. Во-вторых, это выражение означает рациональную природу субстанции, не как ее свойство, функцию или атрибут, но как реальность в себе, как nus, интеллект или абсолютный разум, поскольку это принцип, по которому определяется содержание мира чувств, качественная детерминация последнего. В этом смысле usia совпадает с тем, что обычно называют «сущностью» чувств, в отличие от их непосредственно данной видимости, и означает определение сущности, эссенции или бытия, которое в своем единстве с абсолютной субстанцией достраивает последнюю до внутренне определенного (конкретного) первосущества. Наконец, в-третьих, Плотин понимает под usia истинную реальность в противоположность иллюзорной реальности чувственного и физического бытия, сверхчувственный мир идей или тождественный ему интеллект, вообще сферу умопостигаемого, как истинно существующего в понимании Платона. Во всех трех значениях термин Усия одновременно совпадает с термином ипостась, реальность, задаваемая мыслью (энергией), в первом значении в неактуальном (образном, аналоговом) смысле, во втором и третьем – в актуальном, поскольку мир идей, как «фундамент» чувств, есть истинная реальность, а она, в свою очередь, тождественна интеллекту.[37 - Поэтому также неприемлемо, что переводчики Плотина использовали термин субстанция или сущность для usia и термин форма существования для hypostasis (например, также Кифер, который исправил некоторые неточности Мюллера в своем превосходном переводе). Субстанция – это usia только как определение Единого, сущность – только как определение интеллекта. Выражение форма существования для ипостаси, однако, вводит в заблуждение, поскольку последняя во всех случаях означает реальность, а именно реальность, заданную энергией, как основу другой реальности, зависящей от нее.]
Как во втором значении usia – это только кажущееся бытие, а на самом деле простая сущность, как определение абсолютной субстанции, так и в третьем значении – это только кажущаяся субстанция, просто иллюзорная субстанция, поскольку субстанциальная природа как таковая принадлежит только Единому. Однако греческий язык не имел возможности четко различать три значения слова usia, как только Платон, Аристотель и стоики объединили все три в одно понятие usia и приравняли истинно существующее, сущность и субстанцию к миру идей или к субстанции, или к единству того и другого. Поэтому, понятно, Плотин всегда невольно сливал их воедино, как бы он ни старался их разграничить и отвести каждому из них свое место. Однако, с другой стороны, это давало и определенное оправдание методу Плотина – отделять субстанцию от ее атрибутов, носителя сущности от последней и раздувать обе в самостоятельные ипостаси. Ведь с разрывом обозначенного им и проведением различия между субстанцией, сущностью и истинной реальностью внимание неизбежно привлекалось к троякому значению термина usia, и мысль тем самым была вынуждена искать новое обозначение субстанции в отличие от ее атрибутивных детерминаций. Только тот факт, что христианская догматика, как мы увидим более подробно, присвоила концепцию Плотина и заставила ее определения служить совсем другим целям, помешал скорейшему исправлению фундаментальной ошибки его учения о принципах; и поэтому Спинозе оставалось сделать концепцию абсолютной субстанции, задуманную Плотином, философски плодотворной и тем самым развить самую важную мысль греческого философа в этом отношении.[38 - Чтобы прояснить сказанное, следует вновь вспомнить шопенгауэровское понятие «вещи-в-себе», которое обозначает и подлинную реальность (эпистемологический запредел сознания), и сущность (воля в противоположность понятийному миру видимостей), и исключительно метафизический субъект (в противоположность множественности объектов). Заслуга В. Гартмана состоит в том, что он устранил присущую этому путаницу, отличил истинную реальность (действенность) вещей самих по себе от единственной метафизической сущности и субъекта воли и тем самым переосмыслил преувеличенный эпистемологический идеализм и абстрактный монизм Шопенгауэра в конкретный монизм и привел его в соответствие с опытом.]
B. Дедуктивное нисхождение плотинианского взгляда на мир
I. Учение о принципах
Мы уже поняли Единое как первооснову и первопринцип всего существующего. Теперь возникает вопрос, как бытие и множественность могут возникнуть из сверхсущностного, лишенного множественности Единого. После индуктивного восхождения от мира чувств к высшему принципу реальности ход исследования меняется на противоположный и пытается дедуктивно спуститься от Единого к данному эмпирическому бытию.
Трудность, с которой столкнулся Плотин, отвечая на этот вопрос в своей концепции Единого, очевидна из вышесказанного. Плотин также хорошо осознает эту трудность, и поэтому, прежде чем приступить к решению этой задачи, он обращается к молитве и взывает к самому божеству за просветлением (V 1, 6).
а) Единое и интеллект.
Это исследование начинается с интеллекта (ibid.), снова рассматривая его как «мысль или энергию бытия». Согласно этому, если понимать генитив как genitivus stibjectivus, Единое само должно быть энергией, то есть мышлением, или, по крайней мере, осуществлять его как свою деятельность, и действительно Единое должно быть энергией, которая порождает интеллект и которую Плотин, как мы уже видели, также называет волей с этой точки зрения. Как энергия бытия, Единое есть вседейственность, подобно тому как греческое слово ???????? означает и действенность в активном смысле, и реальность в пассивном смысле того, что совершается. Как то, что (умопостигаемое) Все способно произвести, Единое есть возможность (???????) в смысле способности ко всему, всепоглощающей способности (V 3, 15 и 16). Однако «энергия бытия» в смысле genitivus subjectivus есть также таковая в смысле genitivus objectivus; то есть бытие, которое активно как энергия, одновременно направлено на себя как бытие этой активностью, субъект энергии есть одновременно и ее объект. Бытие в сфере возможного, однако, есть возможность всего в смысле пассивной способности стать всем возможным через вступление в новые условия, что выражается по-гречески тем же словом suvajitq. Таким образом, всевозможность включает в себя возможность всего или всевозможность в себе; как я уже сказал, она есть не что иное, как сама эта возможность, она направлена на себя как воля бытия, и благодаря этому возможность всеволия или всевозможности непосредственно реализуется. Таким образом, Единое есть тождество возможности и актуальности, как в активном, так и в пассивном смысле, способности и действенности, а также возможности и актуальности. Бытие, однако, уже не в сфере возможного, а в сфере действительного, есть интеллект; таким образом, Плотин может утверждать, что Единое, обращаясь к себе, производит интеллект через свое мышление или взгляд, и что это есть взгляд Единого: Мышление (взгляд) бытия (Быт. субъект.) = мышление бытия (Быт. объект.) = тождество субъекта и объекта = тождество мышления и бытия = интеллект (V 1, 7).
Единое как воля есть простое стремление к реальности, которая как таковая все еще полностью лишена содержания, или, поскольку реальность есть содержание видения, простое стремление к видению, не будучи, таким образом, уже реальным, т.е. наполненным содержанием, видением. Но реальный, насыщенный, наполненный содержанием взгляд – это уже не Единый, а интеллект, который, таким образом, получает от Единого все, чем он является, – как способность функции взгляда, так и объект или содержание ее функционирования, благодаря чему неопределенная пустая функция взгляда одновременно получает детерминацию, предел и форму (V 3, 11; VI 7, 15, 17). Единое как всевозможность направлено на себя как на всевозможность, соотносит себя как субъект со своей активностью с собой как объектом и тем самым порождает интеллект. Интеллект, таким образом, есть не что иное, как то, что Единый мыслит в состоянии простой возможности. Энергия интеллекта или его функция созерцания – это воля Единого, его воля в состоянии актуальности; его содержание созерцания или мир идей – это потенциальная множественность в Едином как актуализированная, в результате чего он созерцает ее как множественность в единстве. Таким образом, интеллект познает Единое, познавая себя, и познает себя, познавая Единое; ибо поскольку он сам есть Единое в своей сущности, только в состоянии множественности и actus, или поскольку интеллект есть видение Единого как в субъективном, так и в объективном смысле, то самовидение интеллекта, естественно, непосредственно совпадает с его видением Единого. Как созерцание Единого в субъективном смысле, интеллект является продуктом Единого, в котором Единое разворачивается во множественности и определенности. Как созерцание Единого в объективном смысле, интеллект обращен к Единому, он движется к нему и находит в нем основание и цель своей жизни (V 2, 1). «Все произведенное, – говорит Плотин, – стремится к производителю и любит его, особенно когда они наедине, производитель и произведенное» (V 1, 6). Единое, таким образом, является одновременно субъектом и объектом деятельности восприятия, единственным основанием интеллекта и реальности. Направляя себя на себя, оно порождает интеллект, а значит, и истинно существующее, или мир идей; но порождает не как себя, а как другого себя и, следовательно, не впадая в множественность и детерминированность (VI 5, 9; V 1, 6).
Плотин стремится прояснить это отношение интеллекта к Единому с помощью образов. Он сравнивает порождение интеллекта Единым с великолепием, исходящим от Единого во все стороны, в то время как Единое остается неподвижным, «подобно сияющему свету солнца, бегущему вокруг него, который постоянно порождается им, постоянным» (V i, 6). Или же он сравнивает Единого с источником, который сам не имеет начала, но сообщает себя рекам, нисколько не истощаясь, а лишь спокойно пребывая в себе. Единый подобен жизни могучего дерева: он течет через вселенную в том смысле, что начало остается и не рассеивается по всему, как если бы оно было прочно основано в корне (III 8, io). Оно подобно сосуду, который переполняется своей собственной полнотой и тем самым порождает другой (V 2, 1; V 3, 15). Удовлетворенный и полный сам по себе, он не выходит из себя через порождение другого и не получает тем самым никакого увеличения совершенства, но, поскольку другой возник из переполнения одного, он является лишним для него. Вот почему Плотин решительно возражает против предположения, что это материальная эманация или пространственное расширение Единого, ибо это уменьшило бы само Единое. Но мы уже видели, что Единое находится везде и нигде, а значит, процесс порождения им интеллекта не следует представлять себе как пространственный или материальный, с чем-то вытекающим из Единого и промежуточным пространством между ними. Производное относится к первоначалу не так, как часть относится к целому, а скорее как круг относится к своему центру, как многие качества относятся к основному качеству, которое их касается, как понятие относится к множественности содержащихся в нем моментов (V 1, 6; V 1, 10; V 2, 2; V 5, 9; VI 5, 9; VI 7, 12).
Во всем этом вновь и вновь проявляется стремление Плотина вывести Единое за пределы множественности и определенности и тем самым спасти его от растворения в относительном. Как бы философ ни крутился и ни вертелся: нельзя снять противоречие, что Единое, с одной стороны, лишено всех различий и определенности, с другой но в то же время не просто способность к функции видения, но и возможность всех вещей, подразумеваемая множественность умопостигаемых определений. Плотину бесполезно приписывать Единому только беспрестанное воление или стремление видеть, инициативу к акту видения, но представлять себе сам акт видения как таковой и тем самым развертывание множественности мира идей как деятельность интеллекта (III 8, 8). Ибо деятельность действительно едина со своим объектом в Едином, и этот объект должен быть множественностью, а Единое, следовательно, уже как таковая множественность, конкретное Единое, чтобы быть в состоянии произвести конкретную множественность и реальность из себя. Даже если бы насильственное отделение субъекта от функции, субстанции от атрибута, потенции от акта не было фундаментальной ошибкой Плотина, он все равно не смог бы спасти абстрактность и бессодержательность Единого этим допущением, поскольку чистая зрительная функция не могла бы прийти к какому-либо содержанию, если бы не нашла его в самом Едином. Плотин видит себя здесь перед лицом точно такой же трудности, как и Шопенгауэр, чья собственная актуальная концепция явно напоминает античную. Шопенгауэр также полагает, что может объяснить множественность мира идей непосредственно из воли как таковой, хотя совершенно неясно, как простая, пустая, слепая воля должна быть способна видеть сама по себе и порождать идею из самой себя. Таким образом, хотя Единое может быть волей и актуализировать интеллект через свое воление или вызывать его к бытию, оно, будучи Единым, должно в то же время включать в себя идеальную множественность. Таким образом, интеллект не может быть чем-то отдельным и отличным от Единого, но лишь совокупностью идеальных детерминаций Единого, которые его воля воплощает в умопостигаемую реальность». —
Деятельность воли Единого предстает перед нами как развертывание Единого в множественность; и эта множественность, произведенная таким образом, есть интеллект. Будучи продуктом Единого, интеллект полностью зависит от него, держится и поддерживается им. А поскольку, как уже было показано, все остальное в свою очередь зависит от интеллекта, все сущее, следовательно, зависит от Единого, имеет в нем основание и цель своего существования и, в соответствии с интеллектом, вращается как бы вокруг центра Единого. Сила, исходящая от Единого, проникает в каждое существо, но не отделяется от его истоков. В то же время Единое полностью содержится в каждом существе со своей безраздельной абсолютной силой, подобно тому как весь мир идей одновременно является отдельной идеей или каждая идея в то же время представляет собой целое (VI4, 9). Единая жизнь, таким образом, протекает через всю вселенную. Солнце излучает вселенную как круг света и освещает все. В одной точке сходятся все нити взаимоотношений индивидов как их общий центр (VI 5,55 VI 9, 8). Все есть одно, и одно есть все. Все можно вывести и познать из Единого; по-настоящему познаваемым оно становится только тогда, когда восходит к Единому как к своему основанию и сущности. Действительно, Единое настолько необходимо для бытия, что без него мы не можем ни сказать, ни помыслить ничего другого, поскольку даже обозначения массы, множественности и т. д. имеют в качестве предпосылки Единое, каждое число является числом только через Единое, каждое нечто является единством, указывающим на абсолютное единство, подобно тому как греческое выражение для бытия, а именно ?????, по мнению Плотина, происходит от ?? (Единое), а бытие есть не что иное, как след Единого (VI 6, 12—13; V 5, 5). Таким образом, каждое есть то, что оно есть, только благодаря силе Единого, а без Единого оно не есть вообще, подобно тому как свет не отделен от своего происхождения, а зеркальное изображение не отделено от отраженного объекта (V 3, 15; VI 4, 9; VI 9, 1).
Это Единый, который все создал, но все же поддерживает все в существовании (V 3, 15), который заставляет мыслящее мыслить, живое жить, который вдыхает разум и жизнь, а также дает существование безжизненному (VI, 7, 23). На вопрос, мог ли Единый не создавать вещи, является ли существование необходимым или случайным, Плотин отвечает, что в природе Единого, как Блага, вызывать к бытию множество (V 5, 12). В зависимости от степени своего совершенства мы видим, как вещи порождают и создают других, с намерением и без намерения. Даже бестелесное передает то, на что оно способно:
огонь согревает, снег охлаждает, травы исцеляют – должна ли самая совершенная и первая вещь оставаться одна в себе и ревновать к самой себе или быть бессильной, когда она сама является абсолютной силой всего сущего? (V 4, 1). Единое не было бы Благом, не было бы тождеством действия и бытия, если бы оно, будучи бесконечной способностью, не реализовало в то же время возможность, заключенную в нем от вечности (VI 8, 4).
Но поскольку Единое есть Благо, оно в силу своего совершенства не только перетекает во множественность и как бы выводит Другого из себя в бытие, но и в то же время притягивает сотворенное к себе и возвращает его из состояния инаковости и замкнутости в свое абсолютное единство. Как мы видели, что возникновение Единого из самого себя в порождении интеллекта есть в то же время возвращение к самому себе и что бытие становится мышлением, поскольку ставшее обращается к своему происхождению (ст. 2, 1), так и всякое движение и деятельность в целом стремится к благу; и все не только через благо, но и стремится к благу в результате естественной необходимости и действует только ради блага (ст. 5, 12; ст. 6, 5). Как интеллект обращен к своему творцу, так и все сотворенные вещи, поскольку они нуждаются в нем для своего существования, обращены к Единому, любят Единое, стремятся к нему и в разной степени стремятся его постичь. Поэтому и не-единое стремится стать единым настолько, насколько это возможно: природы влекутся друг к другу врожденным стремлением, более того, даже души желают слиться в единство, сохранив свою собственную сущность; ибо это стремление к Единому, которое проявляется в отношениях различных друг к другу как стремление к единству, предстает внутри каждого индивида как естественное стремление к самосохранению и самореализации, поскольку самость или субстанциальная сущность каждого есть не что иное, как Единое, и тождество существ с собой и единство их природы основано на Едином (V 3, 15; VI 2, 11; VI 5. 1).
Таким образом, Единый – это и происхождение всех существ, и их цель: все исходит из него и все стремится к нему; только так он один является благом, без которого нельзя было бы ни увидеть ничего, ни обрести статус и бытие (V 2, 11). Каждый индивид тождественен Единому, которое проявляется в нем. Но каждый индивид также отличен от него, поскольку он – лишь его видимость, его эффект, его продукт, нечто производное от него и, следовательно, изначально не Единое. По этой причине оно не может обладать той же степенью совершенства, что и Единое. Ведь одно из главных положений Плотина гласит, что ставшее и производное никогда не может обладать тем же совершенством и, следовательно, ни той же силой, ни той же единой природой, что и Первое и Первоначальное (V 1, 6). Как то, что происходит от Единого, должно быть не-единым, множественным, так и это должно быть ниже и нужнее Единого, сколько бы оно ни было лишь подражанием, тенью или отражением Единого и подобным ему (V 5, 5). Но это несовершенство растет тем больше, чем дальше нечто отстоит от Единого, чем больше промежуточных звеньев отделяет его от первоисточника, чем ниже мы опускаемся в цепи причин и следствий. Каждая сотворенная вещь, в свою очередь, творчески активна: она развивает заложенные в нее Единым возможности, как семя из неделимого начала, и доводит их до совершенства, причем так, что, подобно Единому, сама спокойно пребывает в своем особом состоянии, в то время как из нее возникает Другое. Но тварь всегда меньше Творца, и это развитие идет до тех пор, пока все не достигнет крайнего предела в пределах возможного (IV 8, 6). Таким образом, совокупность существующего представляет собой иерархию от высшего к низшему (V 2, 2; V 4, 11), процесс не вверх, а вниз (V 3, 16), последовательность ступеней, постепенно расширяющийся круг, в котором несовершенство ступеней увеличивается по мере их удаления от Единого и от существующего; ибо при этом их сила слабеет в той же степени, единство расходится во множественность и разнообразие, бытие уменьшается, свет, исходящий от Единого, меркнет и, наконец, полностью теряется во тьме небытия (VI 2, 5).
В этой идее убывающего совершенства бытия легко распознать старый натуралистический взгляд на вещи, согласно которому низкому и несовершенному придается значение пространственно более низкого и низкого положения в смысле определения ценности, взгляд на вещи, который наиболее решительно представлен персидской религией Заратустры и который основан на чувственном представлении о солнце и свете. Даже Плотину еще не удалось полностью преодолеть этот чувственный натурализм, каким бы духовным ни был его исходный принцип в других отношениях. Ибо, даже если этот способ зачатия поначалу явно подразумевается им только как образ и, следовательно, чисто символически, в результате его тенденции гипостазировать атрибуты и функции Аллеина и раздувать их в самостоятельные сущности, образ невольно занимает место понятия и ставит его мировоззрение под подозрение натуралистической системы эманации, как бы решительно Плотин ни старался защититься от идеи пространственно-временного истечения его детерминаций из первоматерии. Фактический взгляд Плотина был справедливо назван Целлером «динамическим пантеизмом». Ибо, согласно этому взгляду, первопринцип или Единое имманентно многим не так, что само становится чем-то из того, что им положено в бытие, но так, что все существующее порождено им, что вещи не сами по себе, но лишь выражения силы, как бы частичные функции Единого, и удерживаются и поддерживаются в бытии им (VI 2, 2; VI 4, 3). Однако Единое не совпадает ни с одной из существующих вещей, ни с суммой всех существующих вещей, но, как таковое, возвышается над бытием как таковым (там же, ср. III 9, 3 и VI 2, 3). Плотин стремится разъяснить это на примере звука, который слышен по всему воздуху и одновременно воспринимается многими ушами, не теряя при этом своего единства и цельности: как здесь целое существует само по себе, но при этом заполняет многие уши, так и бытие-в-себе Единого существует одновременно с его произнесением во многих вещах (VI 9, 12). Все, что существует, есть видимость Единого, более того, даже само бытие относится к сфере видимости; Единое же есть первичное бытие, первичное основание, первичная субстанция и в то же время первичный субъект всего, так как вся деятельность в сфере бытия в конечном счете есть лишь деятельность Единого. Единое, таким образом, не существует, а пребывает во всем, т. е. все существующее есть лишь особый феномен Единого. Эта идея настолько нова только для античного мировоззрения, и Плотин настолько озабочен тем, чтобы отличить Единое как таковое от существующего, чтобы предотвратить эманационистское и натуралистическое смешение этих двух понятий и тем самым скептическое разложение понятия бытия, что только по этой причине он низводит пантеистическую имманентность Единого во всех вещах до простого неопределенного «участия» всех вещей в Едином и, вместо того чтобы придерживаться взгляда на индивидов как на непосредственные выражения Единого, допускает, что их существование опосредовано постепенными промежуточными ступенями и переходами (V 3, 17; VI 8, 21). Однако таким образом он, сам того не желая, впадает в натуралистический взгляд на вещи, и поэтому этот последний великий мыслитель античности, который более определенно, чем кто-либо другой, постиг понятие абсолютного духа, остается в неясном подвешенном состоянии между спиритуализмом и натурализмом. —
До сих пор мы понимали интеллект как энергию или мышление Единого как в субъективном, так и в объективном смысле, а Единое – как возможность всех вещей, которая реализуется в интеллекте. Аристотель приравнивал оппозицию возможности и актуальности, динамики и энергии к оппозиции субстанции (материи) и формы, понимая последнюю как пассивную чувственную материальность, поскольку она является вместилищем всех возможных детерминаций, помещенных в нее, а вторую – как активное понятие, которое формирует и образует субстанцию (ср. II 5, 1 и 2). Итак, если интеллект есть актуальность Единого и как таковая возможность, ставшая актуальной, то Плотин вполне мог бы обозначить его, как и Единое, как тождество возможности и актуальности и, в отношении этого аристотелевского определения, как тождество субстанции и формы, так что функция восприятия здесь представляла бы роль формирующего принципа, а содержание восприятия – формируемого, то есть субстанции, в той мере, в какой оно полностью определяется им (III 8, 11). Но теперь, как мы видели, функция восприятия или формирующего принципа должна быть только функцией Единого. Следовательно, если смотреть с этой точки зрения, Единое предстало как форма, а интеллект – как субстанция Единого, поскольку он получает форму от Единого и желает ее осуществления, подобно тому как, согласно Аристотелю, лишенная свойств субстанция стремится к понятийному определению и осуществлению (там же).
Здесь мы снова должны помнить, что в греческом языке слово dynamis используется как для обозначения возможности в активном смысле потенции энергии, а именно факультета, так и в пассивном смысле восприимчивого факультета, способного стать всем возможным, и что понятие энергии также включает в себя как реальность, так и деятельность или эффективность, которая ее производит. Если мы теперь понимаем dynamis и энергию в активном смысле, а именно как способность и действенность, то Единое, как возможность всего, есть способность, потенция энергии, воля, которая сама по себе переходит в деятельность; интеллект же есть энергия желания или видения, actus, действенность и действительность воли. Если же dynamis понимается как просто пассивная возможность, то энергия переходит на сторону Единого, т. е. интеллект – это возможность, пассивное место приема эффектов Единого. Оба различных значения этих слов, которые уже запутали всю метафизику Аристотеля, стали губительными и для Плотина. Иногда он представляет себе отношение Единого к интеллекту как отношение возможности к актуальности, способности к действенности или потенции к actus (III 8, 10), иногда – как отношение актуальности к возможности, энергии или действенности к тому, что ею осуществляется и определяется (III 8, n). Первое происходит, когда он стремится определить Единое как изначальную причинность, как абсолютную силу, которая в силу своей полноты переходит в бытие по собственной воле, второе – когда он стремится подчеркнуть зависимость интеллекта от Единого. Теперь, когда Плотин думает о dynamis, он невольно думает о субстанции, поскольку Аристотель понимал возможность в пассивном смысле. А поскольку, по его мнению, Единое должно быть не чем иным, как материей, и поскольку ему справедливо кажется верхом извращения ставить dynamis (в смысле материи) перед энергией (IV7, 11; VI 1, 26), он предпочитает называть его энергией или действенностью и, таким образом, формой, к которой должен относиться интеллект, как возможность, то есть как субстанцию, пассивно предлагающую себя для определения.
Если мы теперь рассмотрим интеллект с этой точки зрения, то он действительно является субстанцией для формирующей деятельности Единого, но он также является самой формой по отношению к миру идей, и это является субстанцией для формирующей деятельности интеллекта. Как интеллект есть мышление или энергия Единого в субъективном и объективном смысле, так и мир идей есть энергия, мышление интеллекта в субъективном и объективном смысле (V 1, 6). Мышление интеллекта в смысле родового субъективного есть форма, мышление интеллекта в смысле родового объективного есть субстанция умопостигаемого, и это именно мир идей, вся совокупность того, что мыслится интеллектом, содержание воззрения в отличие от формы воззрения, насколько оно определяется последней. Однако в качестве субстанции умопостигаемого мир идей есть душа, а именно абсолютная душа или мир-душа, поскольку она, будучи тождественной с миром идей, включает в себя все содержание последнего, а значит, и мира или вселенной (II 5, 3; III 9, 3; V 1, 3).
b) Мировая душа.
?) Мировая душа и рассудок.
Платон уже ввел мировую душу в качестве посреднического принципа между миром идей и миром чувств, не сумев, однако, уточнить отношения мировой души к миру идей, с одной стороны, и к миру чувств – с другой. Но другие философы, например, Филон, отождествлявший Дальнюю Душу с Нусом или Логосом, или Нумений, использовавший ее в качестве посреднического принципа (не говоря уже о платонизирующих гностиках), также просто утверждали ее существование, даже не пытаясь вывести Мировую Душу из первопринципа. Только Плотин проводит такое выведение на чисто логической и диалектической основе и тем самым пытается умозрительно решить фундаментальную проблему античной философии со времен Платона, а именно объединение духовного и природного.
В качестве средства объединения он вновь использует платоновское чередование двух генитивов и аристотелевское употребление терминов форма и субстанция, а также энергия и возможность.
Предполагается, что мир-душа – это энергия интеллекта в субъективном и объективном смысле. Как энергия интеллекта в субъективном смысле, то есть как исходящая от него активность или действенность, она ведет себя как форма (формирующий или определяющий принцип). Как энергия интеллекта в объективном смысле, в том смысле, что она направлена на интеллект, она ведет себя как субстанция реализации интеллекта. Там ее отношение к интеллекту – это отношение актуальности (действенности) к возможности (способности), здесь – отношение (пассивной) возможности к действенности. Теперь в интеллекте возможность тождественна его актуальности; интеллект есть чистая актуальность и действенность, поэтому мир-душа как актуальность или форма тождественна интеллекту как таковому. Следовательно, все, что остается для мировой души, – это более точное определение того, что она является субстанцией интеллекта, пассивной возможностью, которая представляет себя деятельности или энергии интеллекта для реализации и определения. Поскольку архетипы всего заключены в интеллигибельном, оно должно также содержать архетип субстанции, или субстанция должна быть заключена в нем, но не как чувственная, а как сверхчувственная, интеллигибельная, не как небытие, как вне интеллигибельного, а как бытие, не как субстанция, а как форма, не как становящееся и преходящее, а как вечное; и эта вечная, существующая, умопостигаемая, сформированная субстанция есть мировая душа (II 4, 3—5, 16). Как интеллект относится к Единому как субстанция, так и мировая душа относится к интеллекту как субстанция, поскольку она вбирает в себя формы или идеи как свои детерминации, наполняется ими через интеллект и тем самым представляет себя как вечное царство форм. И как интеллект содержится в Едином, так и мировая душа содержится в интеллекте (V 5, 9), так что интеллект представляет собой умопостигаемую форму или действенность мысли, а мировая душа – умопостигаемую субстанцию или возможность мысли, единство и тождество которых, как мы уже говорили, составляют сущность умопостигаемого.
Конечно, тот факт, что необходимость мировой души обосновывается чисто логическим путем, вряд ли найдет отклик. Ибо кто не видит, что вся эта крайне искусственная конструкция, основные черты которой скорее намекаются, чем действительно развиваются и последовательно реализуются у самого Плотина, равносильна путанице понятий, простой игре с выражениями субстанция и форма или возможность и действительность и двусмысленности их значения. Возобновление этих неудачных аристотелевских определений стало подводным камнем для любой философии; и, несмотря на все свои изобретательные усилия, Плотину не удалось и не удастся осуществить с их помощью переход от умопостигаемой к умопостигаемой сфере,
Когда Плотин определяет мир-душу как «энергию интеллекта», это было бы вполне логично, если бы имело целью лишь выразить тот факт, что необходима особая действенность, чтобы вывести мир идей, который сам по себе вечен, непространственен и в этом отношении просто возможен, в сферу пространственно-временной реальности. И было бы также совершенно правильным считать, что мир-душа, чтобы реализовать в себе чисто идеальный и формальный интеллект, должен быть добавлен к миру идей в качестве факультета, активного динамизма или силы. Теперь, однако, вмешалось второе значение dynamis в смысле пассивной возможности и, таким образом, аристотелевской субстанции, заставившее его приписать действенность как таковую исключительно интеллекту, чтобы отвести от него всякую мысль о простой пассивной возможности, и в то же время приравнять мир-душу, как силу реализации идей, к совокупности последних под именем умопостигаемой субстанции. В замечаниях Плотина об умопостигаемой субстанции иногда проскальзывает верная догадка, что мир идей, как царство одних только логических отношений, предполагает нечто, к чему относятся, с чем связаны отношения, что составляет основу отношений, что само не может быть отношением и, следовательно, также не логично, например, в утверждении, что мир-душа, как сила осуществления идей, есть основа отношений. Например, в утверждении, что ум в своем разделении и расчленении приходит в конце концов к простой вещи, которую уже нельзя разрешить, и когда он называет это глубиной каждого индивида, темной основой всего детерминированного бытия (II4, 5; ср. также III5, 7). Доктрина Плотина о разумной материи действительно время от времени понималась подобным образом и была вновь воспринята в этом смысле Якобом Бёме и Шеллингом. Но его фундаментальный панлогизм, для которого реальное совпадает с действенным или деятельностью, а последняя – с мыслью или логическим, снова и снова мешает ему по-настоящему понять идею алогического мирового принципа; а его высказывания об интеллигибельной материи не оставляют сомнений в том, что для него это одно и то же с миром идей, как материальной возможностью мысли, и в этом смысле с миром-душой (ср., например, Il4,3, и 5,3).
Но если мир-душа есть не что иное, как мир идей внутри интеллекта, и представляет собой лишь особую концепцию первого, а именно с точки зрения субстанции, можем ли мы тогда утверждать, что, выводя этот принцип из интеллекта, мы каким-то образом приблизились к чувственной реальности? Согласно тем скудным намекам, которые дает на этот счет Плотин, мир-душа должен отличаться от мира идей рассудка только своей пространственно-временной детерминацией. Сама мир-душа, возвышающаяся над обоими, как и интеллект, порождает пространство и время (V 1, 10; V 5, 9; IV 3, 9; IV 4, 15—16), поскольку она рассматривает то, что в интеллекте или мире идей образует взаимосвязь всех форм, как одну вне другой и одну за другой. Понятно, что это определение получается уже не чисто логическим и дедуктивным путем из понятия рассудка, а только через латеральный взгляд на чувственно-материальную реальность, в котором пространственно-временная форма представляет собой наиболее общую форму всех субстанциальных определений.
Однако при этом понятийная лестница, по которой он спускается от Единого к миру чувств, обрывается в той же точке, что и у Спинозы и Гегеля, как и всякое выведение данного бытия из неких высших понятий, а именно при переходе от идеи к природе, от разума к реальности, от умопостигаемого, вечного и непространственного к чувственному, пространственно-временному миру опыта; И никакое искусство диалектики не способно преодолеть зияющую пропасть между идеальным и реальным бытием. Причина, по которой Плотин считал себя оправданным вводить определение пространственности в мир-душу, очевидно, заключалась в том, что мир-душа или умопостигаемая субстанция не является «субстанцией» в первом и первоначальном, но только в производном, втором смысле, то есть она должна иметь «субстанцию» интеллекта как первый способ субстанции между собой и Единым и таким образом быть настолько же далекой от последнего, насколько она ближе к миру чувств. Таким образом, мир идей как мир-душа должен быть еще умопостигаемым, но уже содержать в себе наиболее общее определение конечного существования – пространство-время. Как будто термин «субстанция» не был для них совершенно произвольным выбором, обусловленным двойным значением слова dynamis и приравниванием пассивной возможности к актуальной субстанции! Как будто интеллект действительно приближается к реальной субстанции, если философ называет ее субстанцией! Плотин, похоже, обманывает себя тем, что, многократно диалектически меняя понятия формы и субстанции друг на друга, он отдаляется от Единого и приближается к чувственной реальности в той мере, в какой он вставляет понятие субстанции между ней и Единым. Он воображает, что может достичь сверхчувственного или умопостигаемого из сверхчувственного или умопостигаемого и от него далее к чувственному бытию чисто понятийными средствами. Но это именно ошибка новейшего рационализма со времен Декарта, нашедшая свое крайнее выражение в гегелевской диалектике, с той лишь разницей, что последняя для достижения своей цели использует понятия бытия и сознания, которые она диалектически превращает друг в друга и использует друг для друга, тогда как Плотину приходится вместо этого использовать выражения субстанции и формы, энергии и возможности, чтобы невозможное казалось реальным. Однако оба метода основаны на неудачном чередовании различных генитивов как окончательном определяющем мотиве, без постоянного взаимодействия которых в ходе дедукции последняя не сдвинулась бы с места ни здесь, ни там.[39 - Ср. пояснительные примечания к моему изданию «M?nchener Vorlesungen zur Geschichte derneueren Philosophie» Шеллинга (D?rrs Verlag 1902), а также к моему новому изданию «Religionsphilosophie» Гегеля (Eugen Diederichs Verlag 1905).]
Новейший рационализм исходит из факта сознания (I) и стремится прийти к реальному чисто логическим путем, объявляя сознание-сознание на основе cogito ergo sum бытием в подлинном смысле слова: мышление I (gen. obj.) – мышление I (gen. subj.). Античный рационализм Плотина исходит из тождества возможности и действительности сначала в Едином, а затем в интеллекте или вообще в умопостигаемом, а затем заменяет эти понятия аристотелевскими определениями субстанции и формы, поскольку наивно-натуралистическим образом находит реальность изначально только в субстанции. Правда, по его мнению, умопостигаемое должно иметь природу, отличную от разумной, и, следовательно, само быть умопостигаемым, поскольку только такая субстанция может быть непосредственно тождественна мысли. Но таким образом он приходит не к реальной, а в лучшем случае лишь к воображаемой, идеальной субстанции, к мысли о субстанции; и его уравнение мира-души с миром идей, реального с идеальным, лишь визуализированным пространством-временем, не выводит его за пределы сферы умопостигаемого бытия в сферу реальной действительности. Таким образом, так называемая «природа в Боге», т. е. идеальная природа, мир идей
Идеальная природа, мир идей, как идеальный архетип обычно называемой природы, становится для него единственной подлинно реальной природой; эмпирически данная, чувственно воспринимаемая природа, напротив, испаряется, превращаясь в иллюзорную, неистинную и нереальную. Таким образом, монизм Плотина становится абстрактным монизмом в том смысле, что его Единое, как показано, не только чисто пустое существо, но он также абстрагируется от реальности конечного и сводит множественность мира видимостей к обманчивой иллюзии. Следствием этого, однако, является то, что вся средневековая философия, в той мере, в какой она находилась под влиянием Плотина, низко ценила данную природу, что в результате этого более тысячелетия не существовало настоящего естествознания, как исследования эмпирической реальности, и что попытка Шеллинга внедрить полученные за это время научные результаты в философию на плотиновской основе и дедуктивно вывести их из понятия Все, завершилась жалким крахом всего спиритуалистического монизма. Таким образом, Плотин является не только одной из самых влиятельных, но и одной из самых катастрофических личностей в истории духовного развития. Ведь благодаря абстрактно-монистическому характеру своего мировоззрения он более полутора тысячелетий направлял науку Запада по ложному пути и в конечном счете несет ответственность за то, что и сегодня мы все еще бьемся над задачей установления связи между философией и естествознанием.
?) Плотиновские «ипостаси» и христианская Троица.
Предыдущее рассмотрение научило нас признавать интеллект продуктом Единого, а мир-душу – продуктом интеллекта. Как интеллект просвещается Единым, то есть получает от него свое содержание, так и мир-душа, в свою очередь, просвещается интеллектом (V 3, 8). Плотин сравнивает Единое со светом, интеллект – с солнцем, мир-душу – с луной, поскольку светящаяся субстанция у всех троих одна и та же, с той лишь разницей, что интеллект наполняется ею непосредственно, а мир-душа – лишь опосредованно. Или же он сравнивает Единое с центром, интеллект – с неподвижным кругом вокруг него, а мир-душу – с кругом, движущимся вокруг него, имея в виду, что интеллект, как постоянно покоящийся, остается в себе, а мир-душа, благодаря временному осуществлению того, что мыслится интеллектом, находится как бы в движении (IV 4, 16). Мир-душа, таким образом, по своей природе тождественен интеллекту, точнее, миру идей, и в этом отношении, как и последний, является продуктом энергии, то есть ипостасью интеллекта. Но это третья ипостась наряду с интеллектом и Единым, ошибочно названная так, и поэтому, как и две последние, возведенная Плотином в самостоятельный и самосуществующий принцип (V 1, 7).
Отношение Единого к интеллекту также понимается Плотином как отношение Отца к Сыну, при этом играет роль идея, что интеллект представляет собой абсолютную полноту, насыщенность и красоту по отношению к абстрактному Единому и что xo’poq по-гречески означает и насыщенность, и Сына (V 9, 8; V 8, 13). Как Сын, однако, Интеллект, как мы уже видели, не только любовно относится к Отцу, и между ними возникает взаимное отношение самого интимного общения (ср. с. 117 выше), но Интеллект также в свою очередь относится как Отец к миру-душе, поскольку наполняет его содержанием и тем самым только в нем реализует себя (V 1, 8; II 3, 18). Подобно Единому, Интеллект также называется великим богом, действительно, воплощением всего божественного, вторым богом, царем истины, истинным владыкой вселенной и божественного порядка, царем царей и отцом других богов, которому все молится (V 5, 3). Таким образом, Плотин отождествляет его с Кроносом из греческой мифологии, мировая душа соответственно подчинена ему под именем Зевса (V 1, 7; ср. IV 4, 10), а Единый обозначен именем Уранос (III 5, 2). Уранос – абсолютно трансцендентное существо. Он стоит вне всякой прямой связи с миром и, по словам Плотина, уступил власть над вселенной своему сыну, который теперь выступает здесь как организующая и определяющая сила. Кронос также подчиняет себе своего собственного отца; стоя между лучшим отцом и меньшим сыном, он также является фактическим творцом мира, поскольку истинная реальность, мир идей, устанавливается им (V 8, 12 и 13; III 8, 11; V 1, 4).
Зевс или мировая душа, с другой стороны, является лишь творцом мира чувств; и даже если его называют мировым творцом или демиургом, мироустроителем и мировым правителем, он является таковым лишь в смысле мастера-ремесленника, который реализует план, разработанный другим. Его деятельность состоит именно в том, чтобы раскрыть умопостигаемый архетип и схему мира или идеальное взаимодействие всех моментов мира в пространстве-времени и определить эмпирически данный порядок мира чувств в соответствии с архетипическим логическим порядком в интеллекте. Уранос, Кронос и Зевс рассматриваются Плотином как три независимых божества, но, тем не менее, они едины, а именно – всего лишь ипостаси, формы видимости или способы проявления умопостигаемых, внутренне-божественных способов существования Единого Божественного, которое само находится вне и до всякой видимости; и эта сфера троякого умопостигаемого противопоставляется миру чувств как то, что является смесью интеллекта и материальности (V 1, 7).
Здесь следует помнить, что Единое, первооснова, поддерживающая субстанция или усия всего сущего, также называется у Плотина ипостасью и тем самым ставится на один и тот же уровень возникновения с интеллектом и миром идей (мир-душа), в то время как фактические ипостаси, а именно мир идей и интеллект, также получают имя усия и тем самым возвышаются до самостоятельных существ (см. выше с. 111 f.). Таким образом, у Плотина мы находим термин usia, применяемый как к носителю всей реальности в целом, так и к сущности, а также к истинной реальности как таковой; и эти три вида usia, которые в принципе представляют только Единое, только в различных отношениях, каждый обозначается как ипостась, продукт абсолютной энергии, внутренне-божественная форма появления, и рассматриваются как субстанции, существующие сами по себе: Одна Усия, таким образом, в трех различных значениях слова ипостась и в то же время три Усии, ??? ????? ?? ?????? ??????????? – но это первоначальная формула христианской Троицы, установленная на Никейском (325) и Константинопольском (381) соборах.
Убедившись в таком происхождении догмата из философии Плотина, трудно не возмутиться той загадочной бессмыслицей и бесполезной тратой изобретательности, с которой Троица до сих пор трактуется богословами. В конце концов, вся «загадка» этого догмата кроется не только в неспособности Плотина различать три значения слова Usia, как того требует греческий язык, но и в склонности древних овеществлять (ипостазировать) абстрактные понятия и раздувать их до реальных и независимых существ! Одна Усия в трех ипостасях: первоначально это означает не что иное, как то, что греческий язык, используемый философом, обозначает субстанцию, сущность и истинную реальность одним и тем же выражением Усия. Единое есть Усия в той мере, в какой оно является абсолютной субстанцией, первоосновой и носителем реальности в целом.
Интеллект, или сущность, – это усия, поскольку он определяет содержание реальности и тем самым является ее «носителем». Наконец, мир идей – это усия, поскольку он является истинно реальным, а иллюзорная реальность мира чувств, так сказать, «цепляется» за него. Однако все три усии – это лишь одна и та же усия, а именно различные формы, в которых единая усия предстает в сфере божественного, и все три одновременно являются ипостасями: мир идей как продукт умопостигаемой энергии, интеллект в силу его тождества с миром идей, Единое, наконец, в силу неспособности Плотина удержать его в его абстрактной бессодержательности и отделенности от умопостигаемой сферы за неимением подходящего выражения. Если мы теперь примем во внимание, что Плотин уже персонифицировал три умопостигаемых принципа и представил их как богов, что он также представлял отношения Единого с интеллектом как отношения отца и сына и в этом смысле как отношения взаимной любви, и что он также представлял мировое море как своего рода любовь. И что он также приписывал мировой душе, которая, по его мнению, занимает место мира идей, именно ту функцию упорядочивания и направления судьбы мира, которую в догмате должен осуществлять Святой Дух, тогда можно отрицать лишь предвзятое отношение к согласию между плотинианской и христианской Троицей, а историческую связь между ними отрицать нельзя.[40 - Как это делает, например, Густав Крюгер с совершенно недостаточными основаниями в своем сочинении «Das Dogma von der Dreieinigkeit und Gottmenschheit in seiner geschichtlichen Entwicklung» (1905) p. 156 f. Кстати, спекулятивное обоснование Троицы не ограничилось простым отнесением трех божественных лиц к трем умопостигаемым ипостасям Плотина, Единому, Интеллекту и Миру-душе. Исходя из того, что уже сам Плотин ставил Единого в более близкие отношения с Интеллектом и отменял различие между ними словами, а с другой стороны, не мог показать существенного различия между мировой душой и миром идей как содержанием интеллекта, некоторые представители Троицы использовали плотиновский интеллект как таковой для обоснования триединства божественных ипостасей из природы интеллектуального восприятия самого Бога. Здесь, таким образом, функция созерцания, содержание созерцания и единство обоих, или субъект, объект и тождество субъекта и объекта, которые также описываются Плотином как ипостаси и в своем конкретном единстве составляют сущность Абсолюта, должны служить обоснованием трех божественных лиц. Такой способ понимания преобладает, в частности, там, где фундаментальный панлогизм общего образа мышления переносит центр тяжести на интеллектуальное существо и интерес обращен не столько к отношению Бога к миру, сколько к внутренней сущности самого Божества, как это было, например, у Эккехарта и последовавшего за ним мистицизма. Но и Гегель, как правило, ищет Троицу в сфере интеллекта, хотя, с другой стороны, он иногда отождествляет Отца с интеллектом (Логосом), Сына – с миром (природой), а Святого Духа – с религиозным сознанием общины, и в действительности не вышел из колебания между этими двумя различными концепциями. (E. v. Hartmann: Geschichte der Metaphysik vol. I, 253f. Leopold Ziegler: «Die philosophische und religi?se Bedeutung des Meisters Eckehart» in den Preu?. Ср. также его работу: «Der abendl?ndische Rationalismus und der Eros» 52 ff. и мое новое издание «Философии религии» Гегеля (E. Diederichs Verlag 1905) p. 459 ff.), а также мою работу: «Die deutsche Spekulation seit Kant mit bes. R?cksicht auf das W esen des Absoluten und die Pers?nlichkeit Gottes» (1893).]
По правде говоря, Троица основана на самом чудесном заблуждении, проистекающем из языковой неуклюжести. Если это уже относится к плотиновской Троице, то догмат содержит ошибки Плотина только в огрубленном виде; ведь он (благодаря диверсии латинского перевода слова oiworaoic на «persona») действительно принял всерьез «личности» ипостасей и, отождествив вторую ипостась, или интеллект, с «историческим» Иисусом, испортил историю не меньше, чем спекуляцию. Недавно для обозначения возвышения абстрактных понятий до реальных сил был придуман термин «словесный фетишизм». «Словесный фетишизм» – возвышение абстрактных понятий до реальных сил. Если это выражение и оправдано, то только по отношению к Троице; ведь христианин поклоняется трем «лицам» Божества и позволяет себе обманываться простыми словами.
?) Сущность мировой души.
Если мы теперь вернемся к мировой душе и рассмотрим ее собственную природу, то, в силу ее тождества с миром идей и, таким образом, косвенно с интеллектом, к ней также применимы все существенные положения последнего. Таким образом, мир-душа также является многоединым, как и интеллект (VI2, 22; VI4, 4). Возвышаясь над пространством и временем, как разумное существо, она тоже неделима и неразделима, сущность, всегда тождественная самой себе, общая всем вещам в их градации, как центр в круге, от которого зависят все линии, идущие к периферии, и берет свое начало, не смещая его со своего места и не изменяя его природы. Однако, будучи существом, чье наглядное содержание организовано пространственно-временным образом и, таким образом, связано с телесным миром, мир-душа все же имеет тенденцию к разделенному бытию и делимости, и это в его природе – выйти из единства с умопостигаемым миром и соединить себя с тем, что делимо само по себе, – с телесными вещами; В этом отношении она также может быть названа делимой, хотя следует отметить, что мировая душа также является целой в каждой части и в этом смысле неделимой (IV 2, 1; IV 1, 1). Таким образом, душа как таковая на самом деле не делима, а является лишь ее репрезентацией в теле.
Кроме того, душа является принципом движения и жизни для себя, как и для других вещей. Все одушевленное получает свою жизнь, все движущееся получает свое движение от души; сама же душа движется из самой себя и является изначальной, неприступной и неуничтожимой жизнью, без признания которой мы впали бы в регресс до бесконечности в объяснении движения и жизни (IV 7, 14). Душа, как и интеллект, есть бесконечная жизнь, и в этом смысле она целиком энергетична; она – живой организм идей, которые обретают в ней действенность и реальность (II 5, 3). Душа тоже мыслит, как и интеллект, но не идеями, а понятиями, logoi в смысле творческих сил, как их понимали стоики. Она отличается от рассудка именно тем, что по собственной воле развертывает в реальность то, что воспринимается рассудком, и доводит это до проявления в чувственном (IV 8, 3; IV 8, 6). Внутренняя деятельность умопостигаемого, происходящая в интеллекте, соответствует внешней деятельности мира-души (II 9, 8). Ибо душа, как мы уже говорили, есть энергия, понятие интеллекта в смысле genitivus objectivus, она есть логос в разуме (ср. с. 85 выше), она есть глава логосов, а они есть энергия, действенность, actus души, действующей согласно своей сущности; сущность же есть dynamis, способность понятий (VI 2, 5; V 1, 3; V 1, 7). Как слово, говорит Плотин, воспроизводит понятие в душе, так понятие воспроизводит идею в интеллекте; оно является как бы интерпретатором последнего (I 2, 3). То, что соединяется в интеллекте, разворачивается как логос в мире-душе, наполняет ее содержанием и, так сказать, пьянит нектаром (III 5, 9). Деятельность интеллекта, как можно выразить это различие, состоит в мышлении (voeiv), тогда как деятельность мировой души – в рефлексии (ckavosiv). Но это есть разделение чистой деятельности мышления (III9, 1), разделение его внутренних моментов, а именно разворачивание их в пространственно-временную форму. Однако ни в коем случае нельзя понимать энергию души как мышление в смысле сознательной рефлексии и ее «понятийную» природу как дискурсивно-логическое развертывание идей в сознательные мысли, как это делает, например, Кирхнер.[41 - a a. 68 ff.]
Напротив, Плотин прямо отвергает такую точку зрения. Он знает, что мышление в смысле сознательного размышления и обдумывания – это не преимущество, а умаление деятельности мышления и признак неспособности (VI 4, 1), он не устает при каждом удобном случае подчеркивать интуитивный характер мышления или видения мировой души, которая возвышается над всякой рефлексией (IV 3, 10 и 18). Мир-душа видит пространственно-временной расчлененный мир идей только интеллектуальным, но не чувственным (сознательным) способом. Ибо разложение, различение и суждение мыслей, как это происходит в чувственном восприятии, основано на аффектах, которые испытывает тело; мир-душа, напротив, бестелесна и лишена аффектов (IV 1, 1; IV 4, 42). Если все же время от времени кажется, что Плотин приписывает ей нечто вроде самосознания и дискурсивной рефлексии, то это относится отчасти не к абсолютной душе, а к индивидуальной душе, ограниченной телом, и отчасти «самосознание» мир-души следует рассматривать не как избирательное обращение назад к собственному бытию, а просто как обладание ее субстанциальными определениями, как в случае тождественного с ней интеллекта.
Но даже если видение души – это интеллектуальное видение, оно все равно менее утонченно, чем видение интеллекта. Ибо это не изначальное, а лишь производное интеллектуальное созерцание; и если интеллект созерцает себя непосредственно, то душа созерцает себя только в интеллекте и посредством него (V 3, 6 и 8). В целом, однако, душа, поскольку она есть понятие интеллекта в объективном смысле, во всех отношениях является простым образом интеллекта. Ее творение – это подражание деятельности интеллекта. Как интеллект стремится к Единому, так и мир-душа стремится, в свою очередь, к интеллекту и только через него к Единому; она движется как бы по кругу вокруг интеллекта, так как последний освещает ее своим великолепием, обращает душу к себе и препятствует ее рассеянию (V I, 3; V 5, 3; V 3, 7 – 9; II 3, 18; IV 4, 16; VI 2, n). —
С появлением мировой души число чисто умопостигаемых существ исчерпывается. Нет других принципов, кроме Единого, интеллекта и мировой души. Поэтому Плотин прямо противопоставляет себя гностикам, которые в своей так называемой Пиероме, то есть в сфере умопостигаемого, выделяют еще большее большинство принципов, устанавливают запутанный ряд богов-ипостасей, пар потенций, противоположностей и т. д. и, нагромождая лишние абстракции, приводят в замешательство все учение о принципах. Бессмысленно создавать другие природы, кроме тех, на которые указывает применение понятий реальности и возможности к сфере истинно действительного и существенного, различать покоящийся и движущийся интеллект, отделять мыслящий дух от духа, который думает, что он думает, и т. д. Гностики воображают, что, проведя такое различие, они подошли к сущности умопостигаемого ближе, чем даже Платон, у которого они лишь неверно восприняли эти понятия. На самом деле, однако, они лишь низводят умопостигаемое до уровня чувственного (II 9, 1 и 6). Правда, внутри мира-души все же можно выделить различные моменты, и только таким образом мир-душа может занять посредническое положение между умопостигаемым и умопостигаемым.
Ибо мир-душа изначально есть не что иное, как мир идей внутри интеллекта, рассматриваемый лишь с точки зрения субстанции или возможности в связи с формирующей деятельностью интеллекта. Но умопостигаемая субстанция становится формообразующим принципом мира чувств, поскольку она рассматривает идеи в пространственно-временном порядке и они становятся в ней logoi, то есть творческими и действенными понятиями. Таким образом, мир-душа двоится: одна в своем чистом бытии-в-себе, которая, как неделимое и нераздельное существо, не имеющее отношения к телесному миру, абсолютно нечувственна и сверхчувственна и, в незамутненном созерцании интеллекта, весьма возвышается над чувственным, и другая, которая, разделенная своим отношением к телесному бытию, зависит от первого и порождается им и связана с телом вселенной подобно тому, как душа человека связана с телом человека. Эта, верхняя или благородная душа, называется небесной Афродитой, дочерью Ураноса (Урании) или Кроноса, и ведет чисто рациональную жизнь в умопостигаемом без желаний и без боли рождения в своем подражательном создании идей. Эта, низшая душа, с другой стороны, не является чисто сверхчувственной и чисто рациональной, но омрачена материальностью, так как производит чувственный мир тел через свое видение и называется земной Афродитой, дочерью Зевса и Дионы. Если первая, обращенная внутрь, созерцает сверхчувственные идеи, то вторая, обращенная наружу, господствует в мире телесных вещей. Если последняя спокойно пребывает в себе и смотрит только на себя, то есть на свое собственное визуальное содержание, то она в напряженной деятельности смотрит на другого. Земная Афродита связана с небесной, как материя с формой, и оплодотворяется, так сказать, интеллектом, чтобы творить. Поэтому ей знакомы и родовые муки, и стремление к познанию, и инстинкт исследования: исполненная желания реализовать то, что она увидела в интеллекте, она, беременная им, переходит к множественности индивидуальностей и производит чувственную реальность своими внешними действиями (III 5, 2; III 8, 5; IV 2, 1; IV 7, 18; IV 8, 2; IV 8, 7; V 3, 3; V 3, 7; VI 2, 22). Мы видим, что подобно тому, как Плотин различает внутри интеллекта функцию восприятия и ее продукт, содержание восприятия или мир идей, и приравнивает последний к Единому, так и внутри мира-души он различает функцию и то, что ею производится; и хотя последний предполагается тождественным миру идей внутри интеллекта, он ищет это в реализации идей в чувственные или телесные объекты.
с) Природа.
Однако эта реализация предполагает и другие факторы. Во-первых, ясно, что мир-душа мог бы возникнуть из себя и действовать вовне, если бы вне его не было чего-то, на что он действует (IV 3, 9). Мир-душа, как я уже говорил, все еще принадлежит к сфере умопостигаемого вместе со своей деятельностью. Следовательно, она не могла бы произвести противоположное умопостигаемому, телесный мир, если бы не существовало реальной возможности для этого вне ее собственного существования. Но деятельность или энергия мировой души, которая из этой возможности образует телесную реальность, сама по себе не может быть рациональной, так как рациональная деятельность мировой души состоит в созерцании идей (IV 4, 13). Поэтому она должна быть сама по себе, как действенность, беспричинной и как бы слепой, чистой энергией мировой души без всякого логического определения, которая действует как принцип формы только по отношению к простой возможности телесного бытия в том, что она сама, как субстанция, получает свое содержание от формирующей мировой души и таким образом передает его через свою действенность вышеупомянутой возможности. Эту энергию мировой души Плотин называет природой, тогда как возможность – субстанцией или материей в ее внеинтеллигибельном актуальном смысле.