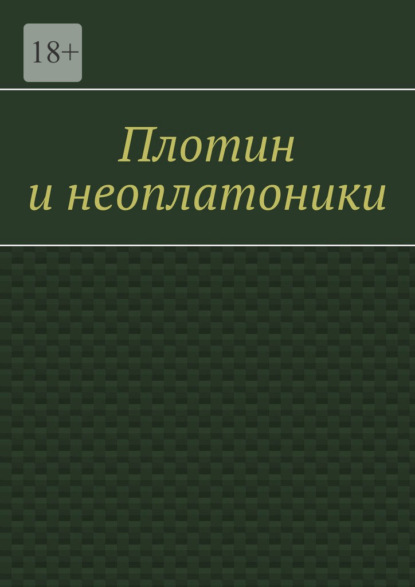По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Плотин и неоплатоники
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Широко мыслящий, примирительный человек, каким он был, он не знал пощады в вопросах морали. Однажды, когда оратор Диофан зачитал на платоновском банкете защиту Алкивиада, в которой тот пытался доказать, что ради познания добродетели вполне можно отказаться от своего вождя, если тот требует чувственного наслаждения любовью, он неоднократно вскакивал, чтобы покинуть собрание, и успокоился только тогда, когда Порфирин выполнил свою задачу и зачитал опровержение этого мнения. И каким только добрым и праведным не было отношение этого человека к жизни 1 Полностью погруженный в свой внутренний мир мыслей, он не позволял этому помешать ему самым добросовестным образом исполнять свои внешние обязанности. Так получилось, что многочисленные друзья и почитатели доверили ему перед смертью своих детей и родственников, чтобы он мог управлять их имуществом, и он заботился о них как отец, прилагая все усилия, чтобы они получили свое имущество и доходы в целости и сохранности.
Что касается его самого, то он был совершенно беспечен. Он носил белую льняную одежду пифагорейцев, много постился, воздерживался от всякой животной пищи и вел самый умеренный образ жизни. Более того, он настолько строго воздерживался от всего животного, что, когда болел, даже отказывался принимать лекарства, сделанные из животных веществ. Это соответствует его преувеличенной скромности и безразличию, с которым он относился к своему телу. Поскольку все его интересы были сосредоточены на духовном и внутреннем, он не хотел давать внешнему миру и своему телу больше, чем считал абсолютно необходимым для жизни. Именно поэтому он похвалил сенатора Рогатиана, когда тот отошел от общественной жизни и полностью посвятил себя возделыванию своего духовного «я».
Неудивительно, что такой человек, поражавший окружающих своей проницательностью и знанием человеческой природы, бескорыстием и скромностью не меньше, чем благородством поведения, нравственной чистотой и высоким настроением энтузиазма, пользовался всеобщим почитанием. Порфирин также сообщает, что, хотя он провел в Риме целых 26 лет и разрешил множество споров в качестве третейского судьи, у него никогда не было врагов среди горожан. И так велико было это почитание, что оно часто принимало характер благоговейного трепета, а Плотина считали чудотворцем и необыкновенным человеком, перед которым склонялись даже духи. О нем ходили странные истории, которые способствовали росту его репутации в народе. Например, один из учеников Плотина, александриец Олимпий, преисполненный зависти к своему учителю, как рассказывают, пытался с помощью магических формул вывести вредное влияние звезд на него. Говорят, что Плотин действительно почувствовал необычное сокращение своего тела, но для Олимпия дело пошло так плохо, что он вынужден был признать большую силу Плотина и отказаться от своего плана. В другой раз египетский жрец, приехавший в Рим, как говорят, хотел продемонстрировать Плотину свои магические способности и вызвать в храме Исиды своего гения. Однако вместо гения Плотину явился бог, после чего египтянин воскликнул: «Счастлив ты, о Плотин, что твоим гением стал бог, а не дух-хранитель из низшей расы!» Однако Порфирий, который передает эту историю, добавляет: «Но они не могли ни спросить бога ни о чем, ни увидеть его дальше, потому что друг, который наблюдал за ними, задушил птиц, которых он держал в руке, чтобы защитить их, то ли из зависти, то ли от страха».[16 - a. a. O. Kap. 10.]
Более того, несмотря на свою набожность, Плотин не желал сам принимать участие в богослужении. «Боги должны приходить ко мне, а не я к ним», – ответил он Амелию, когда тот попросил его сопровождать его на жертвоприношение. По всей видимости, он лишь хотел донести до благочестивого Амелия, что божество обитает внутри человека, а не снаружи в храмах. Его последователи, однако, подозревали в этих словах более глубокий смысл, но не решались расспросить его подробнее. Однако больше всего современники почитали Плотина за его неустанное и искреннее стремление к прямому единению с верховным божеством, первоосновой всего сущего, которое он превозносил над всем остальным. Четыре раза, сообщает Порфирий, он достигал этой цели во время своего пребывания у почитаемого мастера, «неописуемым актом, а не какими-либо усилиями». [17 - a. a. O. Kap. 23.]Таким образом, оказывается, что Плотин обладал способностью по желанию вводить себя в состояние транса, которое неоплатоники трактовали как мистическое единение с первозданным существом.
Под конец жизни философ серьезно заболел, что вынудило его отказаться от профессии учителя и удалиться в поместье своего друга Зета близ Минтурнэ в Кампании. Здесь он умер в возрасте 66 лет в 270 году нашей эры во время правления императора Клавдия. Когда его друг и врач Евстохий пришел к нему незадолго до смерти, он сказал: «Я все ждал, что ты попытаешься возвести божественное во мне к божественному во вселенной». Сразу же после этого он испустил дух. В тот же момент, как говорят, змея, явление гения, выползла из-под его кровати и исчезла в отверстии в стене.
III. Плотин как писатель и философ
Как уже говорилось, Плотин начал записывать свои мысли очень поздно, а именно только на пятидесятом году жизни (253). Мы уже познакомились с причинами, которые приводит Порфирий. Когда он познакомился с ним десять лет спустя, у мастера уже был 21 трактат, к которым в течение последних семи лет его жизни добавились еще 33 трактата. Тот факт, что Плотин смог решиться написать хоть что-то только благодаря внешним обстоятельствам, связанным с методом преподавания и настоятельными просьбами учеников, показывает, насколько весь его интерес был сосредоточен на мысли и насколько он был безразличен к внешней форме – очевидно, совершенно неэллинская черта, на которую справедливо указал Шмидт.[18 - a. a. O. 26.] К сожалению, Плотин также относился к форме с большой небрежностью. «Когда он завершал медитацию в себе от начала до конца, он записывал свои мысли так быстро, как будто переписывал их из книги. В промежутках он разговаривал с кем-нибудь и вел беседу, не отрываясь от своих мыслей».[19 - Porphyrius: a. a. 0. Kap. 8.]
Слабость глаз не позволяла ему перечитывать написанное, а его и без того плохой почерк вкупе с плохим греческим произношением крайне затрудняли понимание написанного другими. Поэтому было правильно, что он поручил Порфирию критический анализ и организацию существующих рукописей и предоставил ему возможность создать из них книгу. В общей сложности это были 54 трактата самого разного объема и ценности. Поскольку при написании книги Плотин отнюдь не имел в виду непрерывное изложение системы, а рассматривал темы по мере их появления во время занятий, частично повторяя платоновские отрывки, Порфирий имел широчайшие возможности для организации трактатов. Он выполнил свою задачу, организовав 54 трактата Плотина в шесть разделов по девять книг в каждом, следуя примеру Аполлодора и Андроника, которые подобным образом организовали труды драматурга Эпихарма и Аристотеля и Теофраста, поэтому труды Плотина получили название «Эннеады», то есть девять. Однако внутри отдельных «Эннеад» он стремился объединить смежные и поставить перед ними более легкие исследования.
Существует лишь одно мнение, что это очень внешний аспект расположения и что Порфирий оказал бы своему учителю гораздо большую услугу, если бы, вместо того чтобы играть с числами Муз, он позволил трактатам Плотина следовать друг за другом в порядке их хронологического развития. Кроме того, выбранное им расположение не могло быть осуществлено без насилия, и Порфирий был вынужден, чтобы везде вывести число девять, возвести отдельные главы в самостоятельные разделы и распределить более обширные трактаты одного и того же содержания по разным книгам.[20 - В своем издании «Plotini opera» (1856) Кирхгоф попытался определить хронологический порядок книг по сведениям Порфирия и проследить их первоначальный вид. См. об этом A. Richter op. cit. 30—32.]
Поскольку трактаты Плотина теперь доступны нам, неудивительно, что «Эннеады» далеки от большой литературной славы некоторых других произведений античности, которые ни в коем случае не могут соперничать с ними по глубине, значимости и величию мыслей, если они полны повторений и обычно считаются многословными, утомительными и трудными для понимания.
В этом, конечно, большая доля вины лежит на случайном и эпизодическом характере его сочинения, а также на небрежности и неаккуратности его автора, иными словами, на испорченности, неполноте и незавершенности текста, которые Порфирий исправил лишь частично, то ли из благоговения перед словом мастера, то ли потому, что сам не всегда вникал в смысл предложений. С другой стороны, это связано и с часто излишне лаконичным, нередко темным и загадочным стилем изложения философа, который затрудняет понимание больше, чем нужно, и всегда ограничивает круг читателей Плотина небольшим количеством. Мало того, что он сам часто испытывает трудности с новыми идеями и необычный характер его мысли не позволяет ему найти правильное языковое выражение: часто создается впечатление, что учитель лишь записывает некоторые вещи в качестве подсказок для своей лекции, оставляя более подробную проработку того, на что лишь поверхностно намекнул, для устного обсуждения, или как будто он записал это только для себя, чтобы вспомнить в подходящий момент и объяснить более точно позже. Этим обстоятельством, возможно, объясняются многочисленные вопросы, которые философ ставит, не давая на них ответа, а также частое отсутствие переходов и энергичного подведения итогов. Слишком часто исследование затягивается, не позволяя понять, к чему, собственно, оно стремится, и именно тогда, когда кажется, что под ногами есть твердая почва, оно внезапно обрывается или неожиданно переходит на новую тему.
Тем не менее, глупо и несправедливо, как это обычно бывает, сравнивать Плотина как писателя с Платоном и обвинять его в том, что он не обладает таким же художественным совершенством и связностью, как величайший писатель античности. С другой стороны, нельзя не подчеркнуть, что платоновские диалоги действительно являются чем-то совершенным в своем роде, но вопрос в том, можно ли считать этот путь идеалом развития философской мысли. Конечно, те, кто идет от Платона и имеет по существу только эстетические или литературные интересы, как большинство филологов, не получат от Плотина в этом отношении ничего хорошего. С другой стороны, этот философ обладает литературными достоинствами, позволяющими не ставить его в литературном отношении и позади Платона. Плотин – один из сравнительно немногих философских писателей, даже не многочисленных в наше время, которые способны четко структурировать сложное содержание мысли, ясно выделять содержащиеся в ней существенные моменты и развивать их в чисто фактической, логически последовательной манере, не подверженной никаким второстепенным соображениям внешнего характера. В этом он имеет сходного литературного товарища в античности только в Аристотеле, но значительно превосходит трезвого, сухого и незлобивого Стагирита по образной силе своего письма, в котором отсутствуют прекрасные, часто чудесные наглядные образы, поэтических и риторических оборотов речи, торжественного и возвышенного тона, который он принимает при рассмотрении наиболее важных тем, простой серьезности и торжественного спокойствия, с которыми он способен придать повышенный интерес менее значительным и менее важным. Поэтому чтение Плотина, по крайней мере для философски заинтересованного читателя, отнюдь не так утомительно, как диалогические расследования Платона, в которых часто приходится продираться сквозь нагромождение не относящегося к делу многословия, чтобы кропотливо вычленить несколько философских самородков из зачастую монотонной беседы взад и вперед. Порфирий справедливо хвалит богатство мыслей в трактатах Плотина, но во многих отрывках находит скорее язык религиозного энтузиазма, чем доктринальный тон философских наставлений. А Лонгин, «величайший критик нашего времени», как называет его Порфирий, часто не соглашаясь с ним в этом вопросе, тем не менее пишет: «Однако прежде всего я восхищаюсь и люблю стиль письма этого человека, проницательность его мыслей и философский порядок и характер его исследований; и я считаю, что ученые должны причислить эти плотиновские сочинения к самым превосходным»[21 - Porphyrius: a a. O. Kap. 9.].
Платон, безусловно, во многом обязан своей славе философа литературным заслугам. Его способ воздействия на эстетическое чувство и художественное восприятие читателя невольно приписывается оценке его философских мыслей, что мы сейчас и наблюдаем на примере Шопенгауэра и Ницше. Но это уже не должно ослеплять нас в отношении достоинств мыслителя, чья единственная забота при изложении своего мировоззрения – выразить свои мысли как можно более адекватно; и если Лонгин хвалит Плотина за его манеру письма, это должно стать еще одной причиной для нового поколения, чтобы наконец отдать ему должное и в этом отношении.
Впервые в античности Плотин вновь становится по-настоящему великим и оригинальным мыслителем. По богатству своих идей, плодовитости точек зрения и внутренней связности мировоззрения он не уступает даже Платону и Аристотелю; по спекулятивной гениальности и пронзительной глубине он превосходит всех своих предшественников. Если Платон – величайший диалектик и художник, Аристотель – величайший ученый, то Плотин – величайший метафизик среди философов античности, возможно, самый великий из тех, о ком сохранились сведения в истории философии. Он не уступает Аристотелю в критике других взглядов и точном знании своих предшественников. Он одинаково мастерски владеет как дедуктивным, так и индуктивным методом доказательства, хотя и не может соперничать со Стагиритом в мастерстве владения эмпирическим материалом, а вся основная черта его характера и мировоззрения не позволяет ему задерживаться на отдельных вещах дольше, чем это необходимо. Плотин, как и Аристотель, обладает орлиным взором на непреходящее и ценное во взглядах других философов и с поразительной синтетической силой обобщает мысли своих предшественников в великолепное философское целое. Во внешней структуре его мировоззрения многое напоминает родственных ему философов – неопифагорейцев, Плутарха, Нумения и прежде всего Филона, так что при поверхностном рассмотрении можно было бы причислить его к эклектикам и отказать ему во всякой оригинальности. Однако более внимательное изучение его жизненного пути показывает, что идеи, которые он разделяет с ними, приобретают в его творчестве совершенно новый вид, а во многих случаях и вообще получают определенное значение, что все его мировоззрение гораздо богаче по содержанию, чем у всех его непосредственных предшественников, и отличается от них, как подчеркивает и сам Лонгин, большей тщательностью в трактовке проблем и тонкостью умозрительных изысканий.[22 - Porphyrius: a. a. O. Kap. 20.]
Там, где те застревают на произвольных утверждениях, гениальных умозаключениях и незаконченных попытках реального воплощения своих мыслей, или даже там, где они, как, например, Филон Фило, преследуют не чисто философский, а лишь теологический интерес и не выходят за рамки аллегорического и причудливого объяснения Писания, у Плотина мы находим диалектические дискуссии, детальные попытки рассуждений и, если еще не полностью реализованную систему, то хотя бы общие очертания и более детальную разработку отдельных частей такой системы.
Кстати, сам Плотин даже не претендует на звание оригинального философа. Как и Плутарх, он также считает, что излагает только чистое учение Платона. Даже там, где он намеренно переступает границы платоновского круга мысли, он убежден, что лишь прояснил и высветил то, что уже содержится, неразвитое, во взглядах его великого предшественника. Плутарх, Нумений и Филон по сути своей религиозные, даже теологические мыслители; их практические и этические интересы значительно превосходят теоретические и метафизические. У Плотина, однако, теоретический интерес уравновешивается практическим. Действительно, идея спасения составляет конечную точку его мировоззрения, цель, к которой в конечном счете направлено все его мышление, и его философия также имеет глубокую религиозную направленность. Однако это не мешает ему всеми силами стремиться к чисто научному и логическому обоснованию этико-религиозной основы своего мировоззрения. Предшественники Плотина отчаивались в возможности познания реального. Они искали помощи извне и хотели преодолеть слабость собственного интеллекта с помощью сверхъестественного просвещения. Не найдя опоры в интеллектуальных спекуляциях
Не найдя опоры и почвы для своей жажды искупления в интеллектуальных спекуляциях, они обратили свой взор вверх, призвали на помощь божество и ожидали, что религия освободит их от недостатков человеческой природы. Степень теоретической обоснованности этих ожиданий была для них гораздо менее важна, поскольку они отчаивались в теории, чем факт существования сверхъестественных сил, способных поднять человека над страданиями конечности. Плотин, напротив, ищет логическое объяснение и оправдание человеческой жажды спасения и прямо ставит перед собой цель теоретически преодолеть скептический образ мышления своего времени.
Второй Раздел. Учение Плотина
Здесь уже обозначена точка зрения, которая является решающей для всех исследований философа и с которой, следовательно, должно неизбежно начинаться описание его взгляда на мир.[23 - Если бы Плотин действительно представил полностью разработанную систему или если бы отдельные трактаты философа были подготовлены по определенному плану и четко связаны друг с другом, мы должны были бы просто придерживаться структуры и порядка его мыслей, приведенного самим философом. Но поскольку об этом не может быть и речи, поскольку сочинения Плотина – это лишь случайные записи, появившиеся случайно и дающие нам скорее представление о систематическом фоне мировоззрения Плотина, чем раскрывающие его на самом деле, то для того, чтобы уловить определяющую основную идею этого мировоззрения, приходится прибегать к экспозиции, установить внутреннюю связь между его отдельными частями, выявить отношения между плотиновскими идеями и подчеркнуть систематический характер этой философии более решительно, чем это делает ее автор. Правда, при этом в изложение взглядов философа вносится элемент, чуждый ему самому, но он неизбежен для того, чтобы получить ясное представление о мире его мысли и четкое представление о различных его частях. Поэтому все наиболее значительные выразители мировоззрения Плотина, такие как Целлер и Кирхнер, развивали его таким образом, что извлекали основные идеи философа из его различных сочинений, организовывали их с определенной точки зрения и таким образом систематически объединяли то, что принадлежит друг другу, в единое целое. Но даже Рихтер, который критикует эту процедуру Кирхнера и вместо этого рассматривает отдельные сочинения Плотина как самостоятельные круги мысли, соотнося их друг с другом в целом, но стремясь сохранить их самих по себе как целое, может провести эту процедуру лишь с некоторой последовательностью, поскольку в своих «Неоплатонических исследованиях» он преследует совершенно иную цель, чем простое изложение мировоззрения Плотина, и должен пропустить некоторые важные и характерные положения только потому, что они не встречаются в цитируемых разделах. (Ср. A. Richter: «Neuplatonische Studien» vol. II [1867] 6—22.)]
A. Начало формирования плотинской философии
Введение: фундаментальная проблема плотиновской философии
В противовес скептицизму софистов, которые отрицали возможность признания реального как такового, Платон поставил вопрос: Как должно мыслиться реальное, чтобы стать объектом нашего концептуального познания? И он ответил, что оно само должно быть понятийным, что оно должно быть миром понятий, поскольку только понятие, как учил Сократ, образует инструмент и объект всякого реального знания. Плотин, как я уже говорил, тоже стремится выйти за пределы скептицизма и ищет прочную опору жизни в познании истинной, самосущей сущности, подлинной реальности вещей. Вся его философия строится на невысказанном вопросе: как следует мыслить бытие, чтобы познать его, несмотря на все возражения скептицизма? Только скептицизм, против которого выступает Плотин, – это уже не наивный скептицизм софистов, подчеркивавший субъективность мысли и отрицавший возможность познания, поскольку оно имеет отношение только к нашим собственным мыслям, но не к самой реальности. Платон преодолел этот скептицизм, просто объявив саму мысль сущностью и подлинной реальностью. В отличие от него, Плотин борется с изощренным скептицизмом постклассической философии, которая, ссылаясь на относительность всего сущего, уничтожила бытие не меньше, чем мысль.
Предпосылкой здесь было то, что бытие совпадает с чувственным, физическим существованием, с материальным существованием. Скептицизм показал, что это не может быть чем-то существенным и реальным, поскольку понятие тела непостижимо для мышления. Поскольку он считал чувственное познание единственно существующим, поскольку и мысль вместе со всей постклассической философией он понимал только из чувственного восприятия, он утверждал, что познать сущность реальности вообще невозможно. Плотин отрицает предпосылку этого взгляда, что чувственное восприятие является единственным органом нашего познания, и вместо этого стремится приписать разуму самостоятельное значение как органу познания. Скептицизм хотел устранить реальность из нашего познания, указывая на ее относительность, но истинно реальное не может быть относительным именно по этой причине. Плотин отвечает, что реальность может быть объектом нашего познания, только если она сама относительна, и что мышление может постичь бытие, только если оно само является мышлением.
То, что было неосознанной предпосылкой философских усилий неопифагорейцев и родственных им мыслителей, у Плотина выражено сознательно.
Разум является истинным органом познания, а не чувственное восприятие, как предполагала вся постклассическая философия; следовательно, не чувственно воспринимаемая субстанция, а только разум может быть истинной сущностью вещей. Сама реальность должна быть мыслима, чтобы ее можно было мыслить: тождество мысли и бытия, как уже знал Платон, является неизбежной предпосылкой всего нашего познания. Сам Платон лишь слишком сильно поддался чарам своего учителя Сократа, когда рассматривал отдельную мысль, понятие как таковое, как сущность и, так сказать, субстанцию мысли, и придерживался представления о реальном как о мире независимых и взаимно замкнутых понятий. Скептицизм показал, что истинный характер мышления определяется скорее внутренней связью, взаимным отношением мыслей друг к другу и их логическим опосредованием друг через друга, как это называл Гегель. Поэтому, если бытие должно быть действительно мыслимым, то должна существовать не просто материальная реальность. потому что это не мыслимо, но и то, что существует само по себе, идеальная реальность и сущность вещей, должно само быть чем-то совершенно иным, чем это жесткое, неподвижное царство платоновских идей, а именно отношением этих идей друг к другу, живым порождением одной через другую, развитием того, что прежде было завернуто в своеобразие непосредственной мысли, процесса, идеального движения – мышления. Но если истинная реальность есть жизнь, активная взаимосвязь и опосредование мыслей, то сами они не могут быть, как думал Платон, самостоятельной и оригинальной вещью, вещью, существующей сама по себе, отрешенной от связи в высшем смысле этого слова, а должны лежать за пределами идеальной реальности как нечто абсолютно не связанное с ней. Следовательно, над всем бытием и мышлением должна существовать сфера, в которой мы прежде всего должны увидеть истинное «я», первооснову и первосущество всего сущего.
Для Платона, определявшего акт познания исключительно через сократовскую концепцию, первооснова, сущность и истинная реальность вещей непосредственно сливались в одно целое. Для него все три детерминации были лишь различными выражениями внутренне существующего или метафизически независимого понятия. Реализация мира идей для него была в такой же мере реализацией истинной реальности, сущности и первоосновы всех вещей.[24 - В новой философии это примерно соответствует точке зрения Шопенгауэра, когда он приравнивает унаследованное от Канта эпистемологическое понятие «вещь-в-себе» к метафизическому понятию «сущность» и делает вывод из идеи единственности метафизической сущности о несуществовании большинства вещей-в-себе, т. е. эпистемологический трансцендентальный идеализм и наоборот.]
Для Плотина, который отличает разум, как орган познания, от мысли, как ее деятельности или способа выражения, разум, как сущность, также отличен от истинной реальности мысли; и поскольку он со скептицизмом придерживается относительного характера познания, первооснова реальности не совпадает с ней самой, но лежит до и вне всякого бытия и мысли.[25 - Это совершенно тот же шаг, который сделал Э. В. Гартман, опередив Шопенгауэра в настоящем, отличив эпистемологическую множественность вещей самих по себе от единственной сущности под названием «объективный мир видимости» и возвысив последнюю как метафизическое субстанциальное основание и носитель над сферой видимости как в ее объективной, так и в субъективной форме.]
Однако, как нечто более мыслимое, основание бытия, следовательно, уже не может быть действительно постигнуто мышлением. Тем не менее, если скептицизм не должен иметь последнего слова в этом отношении, полное преодоление этого направления возможно только путем стремления за пределы нашей мыслительной деятельности, путем прямого мистического единения с основанием всего бытия и мышления.
I. Чувственная действительность
Фундаментальный вопрос плотиновской философии – это вопрос о самости, носителе и основании вещей, свободном от всякой связи. В греческой философии это обозначается термином Usia (?????). Таким образом, Плотин вместе с Аристотелем понимает под усией то, к чему относятся все утверждения в предложении, но что само не утверждается ничем другим, то, что по своей природе принадлежит самому себе, что, как часть, завершает или достраивает такой композит, к которому все остальное примыкает как его свойство или определение, но что само не подчинено другому, hypokeimenon или substratum, и, следовательно, не производится другим, но является тем, что оно есть, исключительно само по себе. (Эннеады. VI, 3, 4 и 5). Стоики описывали основу всей чувственной реальности, субстанцию (???), как таковую и, таким образом, описывали ее как совершенно лишенное свойств и неопределенное нечто. Плотин не может согласиться с их точкой зрения просто потому, что, как и Аристотель, он рассматривает материю как простую возможность вещей, из которой индивидуальная реальная вещь возникает только при посредничестве формы. Следовательно, ему кажется абсурдным представлять то, что не существует в действительности, как принцип и основание вещей, поскольку простая пассивная возможность не может стать действенной, не может перейти в актуальность по своей собственной воле (IV i, n; VI i, 26).
По сути, это то же самое возражение, которое обычно выдвигается против материализма, когда его обвиняют в неспособности объяснить происхождение первого движения материи, от которого зависит все остальное. Согласно стоикам, вся сформированная и определенная реальность – это видимость и эффект материи. Но как неопределенная субстанция может быть причиной формы? Но даже если бы субстанция была определена сама по себе, усия должна была бы пониматься как тело; но тогда откуда берется единство физических свойств, трехмерность, сопротивление, размер и т. д.? Тело как таковое обязательно множественное, поскольку оно состоит из субстанции и ее свойств. Но сама субстанция не может привести к объединению, поскольку она является лишь ее пассивной основой, лишь субстратом для множества свойств. Кроме того, как можно объяснить жизнь и душу из простой мертвой материи? Стоики также считают душу материей и хотят, чтобы она рассматривалась лишь как модификация последней. Но это настолько очевидный абсурд, что он лишь подчеркивает полную несостоятельность всего этого взгляда.
Таким образом, стоики переворачивают истинные отношения вещей с ног на голову, когда хотят понять форму от субстанции, единство от множественности, душу от телесного бытия и так далее. То, что впервые превращает пассивную возможность материи в действительность, ее неопределенность в детерминированность, возводит множественность тела в единство, обусловливает активность души и тем самым впервые делает материю основой конкретного существования, носителем мира видимостей, само не может быть снова материей, но может быть только принципом, отличным от последней, то есть нематериальным, единым и активным, который, следовательно, должен быть также prius материальной действительности. Но тогда материя как таковая не может быть usia или непосредственным основанием существования. Неразумно со стороны стоиков рассматривать бесформенное, пассивное, безжизненное, неразумное, темное и неопределенное как принцип и первооснову вещей. Субстанция не существует даже сама по себе, а потому может быть, в крайнем случае, бытием par excellence, причем не первым, а лишь последним в ряду принципов. Если стоики извращают это соотношение, то причина их ошибки заключается в том, что они избрали чувственное восприятие в качестве руководства при установлении принципов и допускают, что за абсолютную реальность материи может ручаться только внешний вид, поскольку они считают, что признают в ней нечто постоянное и необратимое при всех изменениях вещей и качеств. Но как материя может быть истинной? Разве стоики не утверждают в конце концов, что истинное бытие нельзя постичь с помощью чувственного восприятия, а только с помощью разума? Но что это за странный разум, который ставит материю выше себя и тем самым приписывает ей более высокое бытие, чем она сама? Такой разум, подчиняющий себе материю и считающий себя ниже ее, совершенно неправдоподобен. Ибо как он может судить о ней как о высшей, если он ни в чем ей не равен? Субстанция сама по себе неразумна. Но разум не в состоянии распознать такую вещь и, следовательно, не может предоставить ей никакой конечной и высшей истины (VI 1, 26—28).
Согласно этому, субстанция сама по себе еще не реальна, но лишь тень, к которой примыкают формы или понятия (?????); материальный субстрат, следовательно, неплодотворен и недостаточен, чтобы быть usia в абсолютном смысле (VI3,8). Отсюда следует, что даже то, что представляет собой смесь субстанции и формы, единая детерминированная вещь, не может быть искомой usia. Таково мнение Аристотеля. Однако оно опровергается тем, что невозможно подвести единство субстанции и формы под одно и то же родовое понятие, поскольку не может быть ни бесплотного телесного, ни телесного бесплотного. Поэтому, однако, невозможно рассматривать индивидуальное разумное Это как самоцель (VI 1, 3). Субстанция становится реальной только в форме. Форма же, которая соединяется с субстанцией и в союзе с неопределенной субстанцией порождает детерминированную чувственную реальность, тем самым утрачивает свою реальность вместе с действенностью и опускается до простого пассивного отражения своей первоначальной сущности. Строго говоря, субстанция не является основой для формы, а только для зеркального отражения формы; именно последняя завершает и совершенствует внутренне нереальную субстанцию в определенный чувственный объект. Форма реализует и субстанцию, и то, что является смесью ее и субстанции, то есть индивидуальный конкретный объект, и поэтому может с большим правом рассматриваться как основа последнего. Однако, таким образом, она не находится в субстанции, а едина с ней, и оба вместе, единство субстанции и формы в индивидуальном конкретном объекте, в свою очередь, образуют основу для модификаций мира чувств, подобно тому как Сократ, например, является prius и субстратом для его действий и аффектов (VI 3, 4).
Единство субстанции и формы в чувственных объектах можно, таким образом, назвать usia, как основание определенных состояний и действий: но в любом случае недопустимо рассматривать чувственную usia, вместе с Аристотелем, как опорное основание в абсолютном смысле, независимую и изначальную основу аффектов. Но это также опровергает мнение, что форма чувственного объекта как таковая и есть искомая usia. Ведь, как я уже говорил, форма присутствует в материи не как то, чем она на самом деле является и какова ее природа, а именно как чистая активность или энергия, творчески преобразующая материю, а лишь как тень или след, который форма оставляет после себя в своей деятельности в материи. То, что само по себе является деятельностью par excellence, проявляется в материи как свойство и случайное определение материи, и поэтому не может быть названо узией, а только качеством. Усия предполагается как независимая и изначальная вещь par excellence, в которой, следовательно, нет ничего случайного, но все определяется только своей собственной природой. Качество же – это определенное состояние уже существующих предметов, привнесенное извне или данное изначально, но которое может и отсутствовать; это, так сказать, лишь способ, которым усия отражается на их поверхности. Вот почему мы всегда сбиваемся с пути, постоянно перескакивая через усию в наших исследованиях ее в мире чувств и попадая в плен манящего, то есть путая простое состояние и случайное определение с ее фундаментальной основой. Иными словами, хотя качество и представляет собой творческое понятие или форму в мире чувств, само оно отлично от него и может рассматриваться, самое большее, лишь как видимость usia (II 6, 1—3).
Очевидно, что это преодолевает как стоическо-эпикурейский материализм, так и натуралистический плюрализм Аристотеля. Субстанция как таковая не может быть usia, поддерживающим основанием бытия, к которому все остальные вещи и отношения относятся как простые свойства и детерминации, ни как неоформленная, ни как сформированная субстанция, ни как единое материальное существо, ни как множественность атомов, потому что она как раз не является ничем активным и, следовательно, ничем реальным, но получает всю свою детерминацию и реальность только извне через форму. Но даже единство субстанции и формы не может быть названо usia в истинном смысле, потому что форма в чувственной usia лишена действенности, а следовательно, и действительной изначальной реальности и независимости, субстанция же вообще не реальна. Следовательно, чувственная реальность не является актуальной истинной реальностью. То, что существует в чувственно воспринимаемом, существует не само по себе, а только через участие в том, что действительно существует, от которого оно получило свое существование (VI 3, 6). Усия здесь состоит из факторов, которые не являются усиями; но это возможно только потому, что она сама не является истинной усией, но, самое большее, лишь ее подражанием и образом (VI 3, 8). Мир чувств есть, в сущности, не что иное, как способ, которым сверхчувственный мир форм, творческих понятий или идей отражается на темном фоне материи: образ мира идей в зеркале материи. С его становлением и постоянным изменением форм, присутствующих в нем, это просто мир видимости или, более того, иллюзорный мир. Следовательно, он не может быть местом усии, которую мы ищем; и поэтому мы вынуждены искать усию в интеллигибельном (vovjrdv).
II Интеллигибельная действительность
1 Мир идей и рассудок
Как мы переходим от чувственной реальности к умопостигаемой? Очевидно, только абстрагировавшись от особенностей телесных объектов, их становления, их сенсорной конституции, их размеров и т. д., и сосредоточившись на том, что тогда остается в своей особенности и противопоставлении чувственному существованию (VI 2, 4).
Теперь мы уже научились познавать тело как единство свойств, которые обязаны своим единством не лежащей в их основе субстанции, а единому принципу, отличному от нее, то есть нематериальному. Но мы также видели, что множество свойств не может получить свое существование от субстанции, поскольку последняя пассивна и не развивает никакой первоначальной активности. Поэтому для их объяснения необходим активный принцип, который сам по себе действует на материальную основу, возводит ее из пассивной возможности в актуальность и придает ей, которая сама по себе абсолютно неопределенна, свои различия и детерминации.
Однако это, очевидно, было бы невозможно, если бы нематериальное Единое было абсолютным или абстрактным Единым, если бы оно само по себе не имело множественности и определенности. Поэтому принцип, из которого через посредничество материи возникает телесный мир или мир чувств, должен быть единым, чтобы объяснить единство телесных объектов и их связь, и в то же время он должен быть множественным, чтобы объяснить множественность телесных определений. Поэтому она должна быть многоединой (?????? ??), многообразной или конкретной, так что единство оказывается связью, благодаря которой множество объединяется и удерживается вместе, множественность уничтожается в единстве, а множество частей не может существовать ни отдельно друг от друга, ни независимо от целого, поэтому они вообще не являются частями в собственном смысле слова, а скорее просто моментами, субстанциальными определениями единого и приобретают особую действенность только в своем отношении к единому. Это возможно только потому, что части являются лишь понятийными частями целого, или понятиями (?????), которые, как творческие формы и принципы, формируют мир чувств; ведь только их понятийная сущность остается после вычитания всех специфически чувственных и материальных качеств (VI 2, 5). Как рассмотрение мира чувств показывает, что конечные объекты не существуют в нем отдельно и независимо друг от друга, но что некоторые из них могут быть подведены под более высокие и общие понятия и, наконец, все могут быть объединены как простые определения и моменты в едином понятии бытия, так и с умопостигаемым принципом вещей: он тоже по своей природе является понятием, причем высшим родовым понятием, которое содержит в себе множество низших родовых понятий, каждое из которых само включает в себя множество видовых понятий, а те, в свою очередь, содержат в себе множество индивидуальных понятий. Таким образом, он совпадает с архетипическим миром идей, который Платон также объявил бытием в актуальном смысле, действенным и определяющим принципом лишь внешне реального мира чувств (VI 2, 2).
Мир идей, по Платону, представлял собой простое сопоставление и разделение самостоятельных понятий. Конечно, предполагалось, что они как-то связаны друг с другом и в конечном счете указывают на высшее единство и зависят от этого единства; однако он всегда рассматривал эту связь лишь как непонятное «участие» идей друг в друге, а сами идеи – как самостоятельные общие понятия без внутренней дифференциации. Уже Аристотель упрекал его в том, что при таком взгляде фактическая индивидуальная особенность вещей столь же необъяснима, как и их единство, и поэтому сам он понимал форму как единство общего и особенного. Однако и он не смог объяснить фактическое единство и особенность вещей из простого союза формы и субстанции; он не смог показать, как форма принуждается к конкретизации через ее союз с субстанцией. Однако, согласно Плотину, конкретное существует не только в общем, и последнее как таковое есть, следовательно, многоединое, но многоединое имеет самостоятельное существование до и независимо от субстанции и соединяется с ней, лишь воздействуя на нее извне, так сказать. Таким образом, Плотин обобщает платоновскую концепцию идеи как трансцендентного существа, независимого от самого себя, с аристотелевской концепцией формы как единства общего и частного и рассматривает умопостигаемое как царство сверхчувственных частностей, все из которых сводят друг друга к моментам высшего всеобъемлющего единства.
Если Платон знал только родовые и видовые идеи, то Плотин также утверждает существование индивидуальных идей, которые аннулируются в видовых идеях; И даже если он с оговорками допускает, ради незамутненной чистоты, совершенства и сверхчувственной возвышенности умопостигаемого, идеи также дурных, заблуждений, скверны и тому подобных вещей (V 9, 14), он все же принципиально убежден, что по крайней мере каждый природный продукт, будь то неорганический элемент, организм или мировое тело, имеет свой идеальный архетип в умопостигаемом (VI 7, 8—12). Действительно, даже неразумное и низменное, равно как и человеческие искусства, существуют там в понятийной форме, по крайней мере, в той мере, в какой их чувственная субстанция игнорируется и рассматриваются только их сущностные характеристики, например, гармония и ритм в музыке, симметрия в архитектуре и т. д. (V 9, 11). (V 9, 11).
Таким образом, идеальных архетипов столько же, сколько индивидуальных существований в мире чувств, и это, как справедливо подчеркивает Плотин, потому, что нет двух вещей, которые были бы полностью похожи друг на друга, и отличительные характеристики индивидов не могут быть объяснены общим архетипом, как это предполагает Платон. Идея человека не одна для всех людей, но у Сократа, Пифагора и т. д. у каждого своя идея; и каждая из этих идей сама по себе включает столько идей, сколько есть особенностей в соответствующих индивидах, которые не добавляются к ним случайно, но присущи им. Весь мир чувств со всеми его деталями, таким образом, имеет свой аналог в умопостигаемом и в идеале заранее сформирован в нем. Однако у нас нет причин обижаться на бесконечность (???????) числа идей. Ибо это только кажущееся, тогда как на самом деле число идей вполне определенно как в каждый момент, так и в пределах мирового периода, а бесконечное есть лишь продукт человеческого рефлективного счета (V 7, 1. 3; VI 6, 18). Когда индивид появляется на свет или умирает, принадлежащая ему идея возникает из совокупности идей или отступает в них, и она меняется в соответствии с изменениями чувственных свойств. Но число идей в целом всегда остается неизменным; и то, что кажется добавлением новых идей или утратой существующих, на самом деле есть лишь иное возникновение числа идеальных архетипов, данных и предопределенных раз и навсегда в течение мирового периода (V 7, 1—3).
То, что умопостигаемое на самом деле есть множество-одно, а не, как думает Платон, множественность, которая лишь каким-то образом «участвует» в единстве, ясно уже из его концептуальной природы. Ведь понятие по самой своей природе включает в себя множественность определений, подобно тому как, например, понятие растения или животного содержит в себе совокупность всех тех определений как логически необходимых моментов, которые в действительности определяют растение или животное; и, согласно Плотину, любовь к (умопостигаемой) вселенной состоит в том, что в умопостигаемом все едино и не может быть отделено друг от друга (VI 7, 14). Поэтому идеи существуют друг в друге, подобно тому как моменты понятия существуют в этом понятии и могут быть отделены от него и сделаны самостоятельными только путем дискурсивной рефлексии. Действительно, идеи настолько взаимопроникают друг в друга, как множество центров, объединенных в единый центр, что не одна возникает из другой, но все возникают из целого, и каждое понятие определяется следующим, более высоким, которое в свою очередь определяется окружающим его более высоким, которое в свою очередь определяется еще более высоким и более общим, и так далее. Каждая отдельная идея, таким образом, относится к целому, более того, сама является целым, только в определенной форме, поскольку она неявно содержит целое в себе и в каждом своем определении отсылает к последнему, так что везде все, каждое отдельное есть все, частное есть в то же время общее (V8,4; VI 5, 5; III 2,1). Целое действует на целое с целым и снова действует на часть с целым, т. е. каждое воздействие целого на части есть в то же время воздействие частей на целое. Поэтому, даже если часть первоначально испытывает воздействие только как часть, результатом всегда является снова целое (VI 5, 6). Отдельная идея представляет собой целое, подобно тому как отдельная лошадь представляет собой совокупность всех лошадей или род лошадей, а также млекопитающих и т. д.; и целое – это не просто сумма его частей, но то, что порождает части и всеобъемлющую и всеобъемлющую их совокупность (III 7, 4).
Поскольку умопостигаемое имеет множество не вне себя, а непосредственно из себя и вне себя, или поскольку оно поместило множество в себя, оно едино в гораздо большей степени, чем разумное, которое впервые получило свое единство от разумного. В самом деле, один только prius и порождающий принцип множественности является истинно единым; он таков настолько, что если бы можно было отнять одно из многих, поскольку они тождественны ему, то тем самым уничтожили бы и само Единое. Истинно Единое есть всеобъемлющее понятие, и потому оно не выходит за пределы себя, поскольку для него нет внешнего, но находится повсюду в себе и с собой, не теряя себя каким-либо образом во множественности (VI 5, 9 и 10). В мире чувств, конечно, вещи существуют рядом и вне друг друга, ограничивают и вытесняют друг друга; там также множественность и единство распадаются, единое возникает из многого, часть как таковая не является в то же время целым и действительно есть части, которые существуют отдельно от целого. В умопостигаемом, напротив, все находится друг в друге, ни одно не исключает другое из себя, все как бы находится друг в друге, одно, так сказать, прозрачно для другого (V 8, 4). Причина этого, однако, кроется в том, что интеллигибельное является чисто понятийным и исключает всякую чувственную материальность. Ведь только в пределах чувств, вдали от их материальной основы, переплетение идей представляется пространственно-временным расчленением, и объекты предстают друг перед другом как независимые и отличные (VI 5, 10). В умопостигаемом, напротив, все вместе и, тем не менее, раздельно. Здесь, подобно силам в семени, все понятия слиты воедино, как бы в центре; и как силы, заключенные в семени, по своей природе сами являются понятиями, которые, в свою очередь, заключают в себе большинство понятийных моментов и развертываются изнутри чисто в соответствии с логическими точками зрения, так и умопостигаемое, как я уже говорил, есть родовое понятие, заключающее в себе множество видовых понятий и, следовательно, также не имеющее никакого отношения к барьерам и запретам чувственно-телесного существования (V 9, 6).
Принцип мира чувств, определяющий их различия и реализующий нереальную в себе материальность, есть многоединое умопостигаемое без всякой нереальности, реальное par excellence, «существующее» (?? ??) в превосходном смысле. Истинно единое, таким образом, есть истинно существующее; и поскольку множественность, составляющая его определение, является логической или понятийной, или поскольку именно понятия (идеи) составляют содержание единого, умопостигаемое для Плотина совпадает с нусом, интеллектом, разумом, и даже с абсолютным разумом, поскольку он включает в себя совокупность всех идей в себе. Идеи вместе образуют умопостигаемый мир, космос ноэтос. Последний, таким образом, относится к nus, как множественность его существенных моментов относится к всеобъемлющей форме высшего родового понятия, как продукт относится к производителю, но продукт, который при возникновении не выходит из своей производящей основы, а остается в ней, поскольку он представляет собой только ее существенную детерминацию. Как совокупность всех идей, интеллигибельный космос, однако, абсолютно совершенен и не имеет недостатка, это «истинная вселенная», абсолютная совокупность всех существующих объектов, которая ничего не имеет, к которой ничего нельзя добавить, но у которой также ничего нельзя отнять, и для которой, следовательно, не может быть ни будущего, ни прошлого, поскольку первое предполагало бы, что она еще не имеет чего-то, а второе – что она имеет что-то, но снова потеряла. Мир идей, следовательно, также не подвержен случайности, поскольку это включает в себя возможность того, что с ним может что-то произойти извне, что на него можно воздействовать, и поэтому он не содержит в себе уже все бытие. Поэтому оно есть все по необходимости, без всякого изменения, истинное бытие, которое никогда не может не быть, ни быть иным, всегда неизменное бытие без временных различий, безраздельное совершенство, непосредственное, абсолютное присутствие всех вещей, которое Плотин также называет их вечностью (III 7, 3—6). В этой вневременной вечности и неизменности умопостигаемого мира заключается его покой или постоянство (??????). Но интеллект, содержащий этот мир в себе как свою судьбу, не просто вечен сам по себе, поскольку он находится вне времени и пространства, но, спокойно сохраняясь в себе и не выходя из себя, он в то же время является постоянной насыщенностью и полнотой (?????) (V 9. 8).
Теперь многоединый интеллект – это не просто истинно существующее, поскольку оно лишено всякого недостатка и всякой неактуальности, но актуальное, именно по этой причине одновременно и истинно активное, абсолютная энергия или активность, поскольку оно во всех отношениях составляет контраст пассивной инертной субстанции и его реализация субстанции состоит в том, что оно действует на нее по своей воле (V 3, 7; V 8, 9). Сама субстанция лишена активности и жизненности и не способна придать их себе. Интеллект же есть абсолютная спонтанность без всякой восприимчивости («actus purus»), поскольку в противном случае он не был бы истинно существующим и содержал бы в себе тотальность всего сущего. Но ее действенность истинна только потому, что она направлена не на что-то другое, а исключительно на саму себя (V 3, 7). По этой причине, однако, мир идей и интеллекта есть также царство свободы, а истинная свобода существует только в умопостигаемом, поскольку бытие и деятельность в нем тождественны, а деятельность интеллекта неограниченна и абсолютно спонтанна (VI 8, 4 и 5).
Вечность или вневременное настоящее есть, следовательно, в то же время бесконечная жизнь, ибо она есть жизнь в своей тотальности и, благодаря исключению прошлого и будущего, на которых основана тотальность, ничего от себя не требует (III 7, 3 и 5). Покой или постоянство в интеллигенции есть в то же время движение (???????). Интеллект не имеет жизни, но сам является жизнью; бытие и жизнь интеллекта тождественны. Точно так же, однако, покой и движение не являются его простыми состояниями, но движение есть его деятельность, и это само по себе является его реальностью или бытием, которое, как мы видели, едино с покоем или вечностью. Как бытие или покой относится к единству и цельности, так движение или жизнь относится к множественности, различию и разделенности умопостигаемого; эти два понятия могут быть разделены только в мысли или в дискурсивном размышлении, но в действительности они едины, так же как мы обнаружили, что единство и множественность едины в умопостигаемом и что последнее по своей природе много и едино (VI 2, 6—8; VI 9, 2).
В чувственном мире, как и во всем остальном, покой и движение, бытие и жизнь – это две разные вещи, взаимоисключающие друг друга. В умопостигаемом, однако, они сливаются в одно. Здесь покой есть в то же время движение, только не локальное, чувственное, а сверхчувственное интеллигибельное движение, так что единство или целое постоянно устанавливает свои идеальные определения или множественность частей, чтобы столь же постоянно аннулировать их снова в единой тотальности. Покой в интеллигибельном означает, таким образом, лишь постоянство интеллигибельного движения, которое оставляет неизменным состояние целого, так же как оно всегда производит одни и те же моменты содержания в индивиде (VI 2, 7): интеллект дифференцирует себя, замыкает себя во множественности частностей и снова принимает их в себя как свои детерминации, показывая себя всеобъемлющим, порождающим и господствующим принципом множественности. Бесконечная жизнь интеллекта состоит в том, чтобы выводить различное, доказывать свое высшее единство, подчеркивая и связывая свои сущностные детерминации. Таким образом, это постоянное движение, движение и покой в одном, движение, однако, без изменения или изменение, которое, тем не менее, не отменяет неизменности и непоколебимого самоподобия того, что изменяется (VI 2, 8).
Таким образом, интеллект можно определить и как тождество или дизъюнктивность (????????), и как изменение или инаковость (????????): он есть тождество в той мере, в какой он обладает постоянством или покоем, т. е. движение постоянно повторяется и содержание мира идей также остается неизменным, в той мере, в какой множественность его частей не нарушает единства и цельности мира идей и каждая из частей одновременно представляет целое. Это инаковость, изменение или различие, поскольку оно вообще является движением и порождает множественность частей или определений, которые сами отличаются от целого. Теперь мы убедились, что постоянство и движение, или бытие и жизнь, тождественны. Следовательно, рассудок есть тождество тождества и инаковости, поскольку каждая его часть как таковая есть в то же время целое, то есть сама по себе и ее противоположность, но целое есть также, наоборот, каждая из его частей и, таким образом, не есть целое (VI 2, 7). В этом смысле Гегель позднее задумал истинное как диалектический процесс и позволил понятиям выходить из понятия бытия на основе их противоречивой природы и возвращаться к нему. Действительно, мы как будто слушаем самого Гегеля, когда Плотин видит существенную особенность и превосходство рассудка или разума в том, что он производит не просто различия, а противоположности внутри себя (III 2, 16).