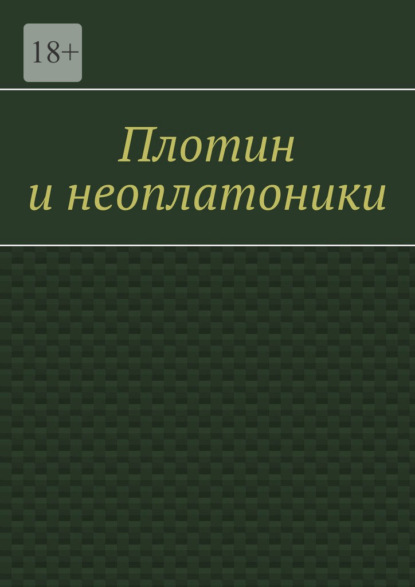По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Плотин и неоплатоники
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
2. Умопостигаемая действительность как мышление.
Что же такое это умопостигаемое движение, которое тождественно покою или постоянству, направлено исключительно на себя и как таковое должно быть истинной реальностью?
Само собой разумеется, что движение в умопостигаемом или в царстве мысли не может быть ничем иным, как мышлением (VI 2, 8). Мысль – это тождество тождества и инаковости, единства и множественности, покоя и движения. Ибо она всегда сама есть нечто иное, чем то, что она мыслит, и в то же время она снова едина с ней в акте мышления. Кроме того, как единая деятельность, оно одновременно включает в себя множественность мыслей; и, производя мысли и возвращая их в себя как свои моменты, оно одновременно приходит в покой в этих продуктах своей деятельности (V 3, 10). Если это уже верно в отношении нашего (конечного) мышления, то тем более это будет верно в отношении абсолютного мышления. Наше мышление детерминировано внешним воздействием и способно прийти к новому содержанию по собственному желанию только через память, сравнение и рефлексию, то есть через дискурсивную временную рефлексию. Абсолютный же разум, все-дух или первозданный дух, как его можно назвать и мышлением, уже включает в себя все возможные содержания, помещает их непосредственно в идеальную реальность, не привязываясь к временной последовательности, и поэтому не нуждается в памяти, сравнении и рефлексии (VI 2, 21).
Наш ум лишь представляет себе предметы, Всесущий Дух представляет их себе постольку, поскольку он изначально порождает мысли и постоянно имеет их перед собой как вечные. Всесущий дух, по выражению Плотина, «не есть дух того рода, который можно было бы вывести из того, что мы называем духом. Мы – духи, которые получают свое содержание из логических предпосылок, которые достигают своего понимания через логические операции и размышления о причине и следствии, которые видят сущее по закону достаточного основания, духи, которые не имели прежде, но были пусты до своего познания, несмотря на свою духовную природу. В самом деле, не такова природа этого духа, но он имеет все и есть все и со всем, будучи с самим собой, и он имеет все, не имея его. Ибо он не имеет его как нечто отличное от себя, и каждая отдельная вещь из того, что в нем есть, не существует отдельно. Ибо каждая отдельная вещь есть целое и во всех отношениях все; однако она не смешана вместе, а, напротив, отдельна сама для себя. С другой стороны, то, что участвует, участвует не во всем одновременно, а только в том, в чем оно может участвовать (I 8, 2).
Так что если нам приходится кропотливо прокладывать себе путь через умозаключения и доказательства от определения к определению, то мышление Всевидящего вовсе не движется в силлогизмах, но в предпосылках он сразу мыслит вместе с заключительным предложением и, не колеблясь и не сомневаясь, узнает будущее в настоящем и без труда устанавливает его как определение своего мышления (V 8, 7). Таким образом, его знание не похоже на знание провидцев, которые лишь косвенно выводят будущее из настоящего и предвидят или интерпретируют его в эмоциональном предчувствии, а скорее на знание творческих духов, которые уверены в будущем в настоящем и никогда не испытывают сомнений или других мнений (IV 4, 12, ср. также V 5, 1). Иными словами, абсолютное мышление Всесущего Духа – это не дискурсивная временная рефлексия, а вечная одновременная интуиция, которая имеет и знает все изначально, это неотражаемое всеведение, или, точнее, это вообще не мышление в нашем смысле слова, а видение, не чувственное, а сверхчувственное видение или интеллектуальное созерцание (V 3, 17). Однако как таковое оно, как я уже сказал, не является пассивно определенным, как наше мышление, и не направлено на что-то другое; скорее, это чисто бесстрастная энергия, которая просто имеет дело с собой, остается в себе и разворачивает все свое содержание спонтанно из себя.
Разумное движение есть мышление, мышление есть интеллектуальное созерцание, интеллектуальное созерцание есть спонтанная энергия или действенность; но именно она, как мы видели, тождественна покою и как таковая опять-таки бытию. Следовательно, мышление и бытие – это также одно и то же, так что не только функция или деятельность мышления сама является бытием в силу своего тождества с разумным движением, но и продукт энергии, содержание мышления или объект видения тождественен бытию как таковому, поскольку он един с постоянством (V 9, 5). В самом деле, если мышление в умопостигаемом имеет свой объект не вне себя, а внутри себя, если оно, подобно нашему мышлению, не просто мыслит о нем, а мыслит его оригинальным образом, то оно должно быть тождественно с ним и должно относиться к мышлению, как продукт относится к производящей функции. Но объект мышления – это бытие; поэтому бытие должно быть тождественно самому мышлению и в то же время быть результатом функции, энергии или эффективности мышления (VI 2, 8).
Плотин обозначает продукт энергии стоическим термином hypostasis, но понимает под ним не гипокеименон, субстрат или основание свойств, как это делают стоики, т. е. бескачественную первичную субстанцию как основание и сущность вещей, а нечто абсолютно нематериальное или умопостигаемое, а именно, как это выражение также подразумевает, мысль, постольку поскольку она «порождена». бескачественную первоматерию как основание и сущность вещей, но скорее нечто абсолютно нематериальное или умопостигаемое, а именно, как следует из этого выражения, мысль, поскольку она «вызвана» энергией мысли (V 1, 4), положена и тем самым обрела реальность (VI2, 8; V 1, 7). Таким образом, в интеллигибельном реальность является не prius, а posterius функции или энергии мышления: не существующая реальность мыслит, и не мышление здесь мыслит уже существующую реальность, но непосредственно устанавливает ее посредством своего мышления; и эта интеллигибельная ипостась, устанавливаемая энергией, есть собственно истинная реальность, поскольку она едина с мышлением, а мышление, как интеллигибельное движение, едино с покоем, который сам есть лишь другое выражение для интеллекта, который мы понимали как истинно существующее.
Теперь цель всякого мышления – мыслить истинное, то есть реальность. Но эта цель достигается в высшей степени тогда, когда эти два понятия перестают различаться, когда реальность полностью аннулируется в мышлении, когда мышление без разбора растворяется, так сказать, в реальности. Но именно так обстоит дело в интеллигибельном. Поэтому умопостигаемое – это не просто истинная реальность, а царство истины вообще, абсолютной истины, поскольку в нем знание – это не просто образ вещи, а непосредственно сама вещь (V 3, 5). В царстве чувственно-воспринимаемого мышление и мысль – две разные вещи. Здесь бытие выпадает из мышления, и то, что познается, всегда является лишь образом вещи, но никогда – самой вещью. Поэтому сомнение не исключается и здесь. Окончательное решение о предмете принимают не органы чувств, а разум или размышление, обусловленное органами чувств, и поэтому здесь недостижима истина в смысле аподиктической уверенности, но, самое большее, только вероятность. Поэтому чувственное восприятие не выходит за пределы простого мнения (????) и не способно проникнуть в абсолютную истину (V 5, i). Вот почему Плотин в ответ на возражения Порфирия [26 - Leben Plotins Kap. 18.]настаивает на том, что умопостигаемое находится не вне интеллекта, а скорее является его содержанием или предназначением, поскольку в противном случае истинное было бы для интеллекта чем-то случайным, не принадлежащим ему непосредственно и чуждым ему, а следовательно, не было бы и абсолютной истины.
Ибо именно поэтому оно не соглашается с другим, но только с самим собой; оно также не говорит ничего, кроме самого себя: оно есть то, что говорит, и говорит то, что есть, или, другими словами: оно есть непосредственное тождество бытия и мышления (V 5, 2). Мышление и бытие или зрение и видимое отличаются друг от друга лишь концептуально, но не в действительности. Они соотносятся друг с другом как причина и следствие, как функция и продукт, как энергия и ипостась. Как мышление есть лишь другое выражение разумного движения, так и бытие есть лишь другое выражение покоя или постоянства. Поэтому можно с таким же успехом сказать: бытие – это стабилизированное или неподвижное движение мышления, доведенное до остановки, и наоборот: мышление – это приведение в движение или активизация.
В соответствии с этим совершенно одинаково, понимать ли истинное, то есть умопостигаемое, бытие как реальность на основе энергии мышления или понимать его как активную действенность функции мышления, поскольку и то и другое тождественно. Но нет разницы, объявлять ли истинным бытием мир идей, содержание интеллектуального созерцания, или же интеллект, деятельность созерцания как таковую, поскольку и то, и другое, как я уже сказал, совпадает с различием между бытием и мышлением, между видимым и зрением, между покоем и движением, между интеллигибельной ипостасью и энергией, а они тождественны между собой. Поэтому можно с таким же успехом сказать, что интеллект мыслит идеи, как и, наоборот, что идеи составляют интеллект, т. е. можно с таким же успехом рассматривать интеллект как prius мира идей, а последний – как prius интеллекта; они различаются только в дискурсивной рефлексии (V 9, 7 и 8; VI 6, 6). Продукт интеллекта Плотин также иногда называет Логосом или Мудростью (?????), причем Логос, по-видимому, характеризует мир идей как систему мощных и порождающих сил в смысле стоиков, а Мудрость – как логическую и телеологическую активность этих сил, в качестве которых они затем предстают в третьей ипостаси, мире-душе, порожденном интеллектом. В этом отношении Логос и Премудрость, вероятно, называются ипостасями после интеллекта и, таким образом, рассматриваются как posterius интеллекта (III 5, 9; V 8, 4 и 5). Но поскольку мир идей, как уже говорилось, с тем же успехом можно понимать как prius интеллекта, так как мышление и бытие в умопостигаемом тождественны, а мир идей составляет интеллект, логос и мудрость, в свою очередь, также совпадают с интеллектом, что объясняет утверждение Плотина, что в умопостигаемом мире логос и мудрость есть все (III 3, 5).[27 - v. Har trenn: Geschichte der Metaphysik Bd. I 147 ff.]
Таким образом, мир идей, то, что видит или мыслит интеллект, есть не что иное, как интеллект, поскольку он мыслит или смотрит на себя как на нечто иное. С другой стороны, интеллект видит или мыслит мир идей в той мере, в какой он видит себя в нем. Реальность интеллекта – это мир идей; реальность мира идей – это интеллект, или, другими словами, интеллект реализует себя через мышление идей, мир идей реализует интеллект, формируя его содержание. Бытие мира идей состоит в том, что он мыслится интеллектом, бытие интеллекта – в том, что он мыслит идеи. Интеллектуальное восприятие, таким образом, есть самовосприятие интеллекта (V 3, 4—10; V 4, 2). Но в то же время, как мы видели, оно является абсолютной истиной и как таковое есть сама реальность. Таким образом, истинная реальность заключается в самореализации интеллекта через его собственное мышление.
3. Ум и сознание
Если попытаться выразить все разработанные здесь определения интеллигибельного в виде уравнения и тем самым сделать их понятными, то оно будет выглядеть следующим образом: разумное = приус и порождающий принцип детерминаций мира чувств = многоединое = истинно единое = истинно существующее = интеллект = мир идей = вечность = покой = тождество = бесконечная жизнь = разумное движение = инаковость = тождество тождества и инаковости = мышление = все-дух = интеллектуальное созерцание = безразличная спонтанная энергия = бытие = разумная ипостась = истинная реальность = царство истины = тождество мышления и бытия = мир идей = интеллект. Истинно реальное, таким образом, является истинно действенным. Но его нельзя найти в чувственно-материальном мире, где эффективность физических объектов взаимно ограничена, а мышление также зависит от внешних впечатлений, но оно существует только в умопостигаемом, в мире чистого мышления, мышления, которое мыслит не другого, а себя, ибо только оно является абсолютно спонтанной и лишенной аффектов энергией и, следовательно, действительно эффективно.
Легко понять, что то, как Плотин определяет умопостигаемое, является лишь модификацией соответствующего определения Платона. Для Платона понятие бытия также было главным объектом его исследований, и он понимал генитив «из бытия» как в смысле genitivus oebjectivus, так и genitivus subjectivus, т. е. (эпистемологическое) понятие бытия (сущего) совпадало как таковое непосредственно с бытием понятия (метафизической идеи). Плотин, со своей стороны, также определяет умопостигаемое как понятие бытия в смысле genitivus subjectivus и в этом отношении описывает его как интеллект, всеобъемлющее понятие. Но если он также понимает генитив «бытия» в объективном смысле и таким образом отождествляет (метафизическое) бытие понятия или интеллекта с понятием бытия, то познание понятия не означает для него такого познания интеллекта, которое имеет только человек; познание, таким образом, не имеет для него чисто субъективного эпистемологического значения, но он понимает под ним только то познание, которое имеет интеллект как таковой, т. е. он остается с этим определением в смысле генитивного субъективного субъекта. Иными словами, при таком определении он остается исключительно в метафизической сфере умопостигаемого. Бытие понятия есть понятие бытия, т. е. интеллект есть понятие, познание самого себя. Интеллигибельное, таким образом, не есть, как у Платона, простое косное бытие, мертвое понятие, осознаваемое только нами, но это, так сказать, круг, возвращающийся в себя, в котором субъект и объект понятия совпадают в одно в самой метафизической сфере: абсолютное тождество субъекта и объекта.
Конечно, это возможно только при условии, что понятие как таковое само по себе есть деятельность, умопостигаемое движение или мышление, или что мышление понятия (genitivus objectivus) есть мышление понятия (genitivus subjectivus). Таким образом, сущность понятия или интеллекта – это мышление. Оно само есть только в деятельности мышления, а то, что оно мыслит, в свою очередь, есть только оно само как мышление. Таким образом, вместо того чтобы понимать бытие у Платона как понятие бытия или как бытие понятия, Плотин определяет его с тем же правом как мышление бытия в субъективном и объективном смысле, но не выходя из сферы умопостигаемого или метафизического, и таким образом приходит к определению истинной реальности как тождества мышления и бытия, как интеллектуального созерцания в смысле абсолютной действенности, умопостигаемой деятельности, возвращающейся в себя, или как самовосприятия интеллекта.
В этих определениях легко распознать зародыш и предвосхищение той основной концепции современной философии, согласно которой истинная реальность содержится в самосознании, развертывании и возвращении мысли к самой себе. Истинно реальное, учит Плотин, – это само мышление. Это, добавляют новые, наше собственное самосознание, или эго, и, следовательно, сознание есть истинное бытие. Cogito ergo sum Декарта, монада Лейбница как активная сила или энергия мысли, трансцендентальное единство апперцепции Канта, абсолютное «я» Фихте, тождество идеального и реального Шеллинга, самодвижение и самореализация понятия Гегеля – все эти различные фундаментальные принципы, которыми оперировала и отчасти продолжает оперировать современная философия и на которых она строит свои системы мысли, в равной степени содержатся в плотиновском определении интеллекта. Не подлежит сомнению и то, что уверенность, на которую претендуют новейшие философы в своих принципах, в основном основана на той же подмене genitivus objectivus genitivus subjeethms и, следовательно, является лишь тавтологическим предложением, как это мы находим в античной философии.
Мышление бытия (genitivus objectivus) есть мышление бытия (genitivus subjectivus), или бытие и мышление тождественны: такова основная посылка всего античного мировоззрения. Но у Плотина она впервые приобретает значение движения мысли, возвращающейся в себя. Более поздние мыслители, просто как следствие этого, представляют себе это тождество с точки зрения сознания и таким образом приходят к своим различным принципам. Так, согласно Декарту, мышление Я или сознания (genitivus objectivus) есть то же самое, что и мышление Я (genitivus subjectivus), то есть Я есть мыслящее сознание, утверждение, которое Лейбниц усиливает до того, что бытие имеет свою сущность в активной функции мышления, которая, как и у Я, должна быть эгоической, сознательной, индивидуальной. То, что мысль о субстанции (в объективном смысле) есть мысль о субстанции (в субъективном смысле), так что субстанция не просто является самой собой в мысли (содержание сознания), но что субъективная экспликация мысли о субстанции есть в то же время объективное развертывание ее метафизических детерминаций, является предпосылкой Спинозы: ordo et connectio idearum idem est ac ordo et connectio rerum. Кант утверждает, что знание, которое мы имеем о нашем сознании, есть знание, которое имеет наше сознание как субъект или формирующий принцип знания; объект познания (как содержание сознания), таким образом, в формальном отношении тождественен познанию объекта, и вследствие этого аподиктическое познание этого объекта возможно в формальном отношении.[28 - Можно также сформулировать точку зрения Канта следующим образом: Познание априорных условий или форм сознания (опыта, как содержания сознания, которое в действительности является лишь апостериорным), есть, по Канту, в то же время познание априорных условий (сторон) сознания, а значит, само является априорным познанием; объект познания, сознание, есть в то же время субъект познания (активное сознание) и потому (по крайней мере, по своей формальной конституции) априорно познаваем, поскольку мы сами есть это сознание; формы сознания есть формы сознания и потому априорно определены.]
Согласно Фихте, сознание абсолютного бытия как такового есть в то же время сознание абсолютного бытия (genitivus subjectivus) и, следовательно, абсолютное сознание (ego), тогда как Шеллинг определяет последнее как интеллектуальное созерцание, в котором бытие и мышление совпадают как субъективно, так и объективно, и строит всю свою натурфилософию на молчаливой предпосылке, что знание природы (genitivus ?bjectivus), т. е. естествознание, есть знание природы (genitivus subjectivus), или, другими словами, что природа по самой своей природе есть знание и поэтому не из себя, как стремится к этому эмпирическое естествознание. Т.е. естествознание, познание природы (genitivus subjectivus) или, другими словами, что природа по самой своей природе есть познание и, следовательно, должна быть понята не из себя самой, как стремится эмпирическое естествознание, а из познания, из чистого разума. Точно так же Гегель понимал субъективное мышление бытия или философию как объективное мышление бытия (genitivus subjectivus) и отсюда брал право утверждать, что объективные (божественные) мысли могут быть непосредственно осмыслены субъективным человеческим мышлением и что план творения может быть построен a priori, так сказать, из чистого разума.[29 - Ср. мое новое издание «Философии религии Гегеля в сокращенном виде с введением, примечаниями и пояснениями», Eugen Diederichs Verlag in Jena (1905).]
Да, даже Шопенгауэр входит в этот контекст, когда учит, что наше сознание воли (воли) есть сознание воли, сознательное бытие воли, непосредственное бытие воли в сознании. Но дело не только в иррационализме Шопенгауэра и рационализме более позднего времени с его настаиванием на аподиктической достоверности знания и наивным объединением субъективного и объективного мышления: весь эпистемологический идеализм, феноменализм и позитивизм нашего времени по существу коренится только в старом чередовании этих двух генитивов и точно так же черпает уверенность своего убеждения только из созвучия или якобы тавтологии двух различных по смыслу пропозиций. Или что выражает «Esse – percipi» Беркли и его современных последователей, кроме того, что сознание бытия есть сознание бытия, что сознание и бытие совпадают и, следовательно, что бытие как таковое есть само сознание-бытие?
Как видно, современная философия сознания в принципе не отличается от античной в основных методологических предпосылках своего мышления, хотя и занимает противоположную позицию, поскольку, подобно античности, не чередует два генитива по признаку бытия, а по признаку сознания, и трактует бытие в утверждаемом таким образом тождестве бытия и мышления, за исключением разве что атавистической точки зрения наивного материализма, как бытие-сознание. Это согласие в основных методологических предпосылках, однако, вполне естественно, поскольку и античный рационализм, и современная философия сознания стремятся к аподиктическому знанию, а оно, разумеется, возможно только в том случае, если субъективное мышление или сознание реальности тождественно последнему и, следовательно, само является каким-то образом мышлением или сознанием.
Как я уже говорил, особой заслугой Плотина является то, что в своем определении интеллекта он представил тождество мышления и бытия как движение мышления и тем самым, как первый, проложил путь к современной концепции сознания, cogito ergo sum Декарта в античной философии. Ведь согласно формулировке основателя современной философии, эго – это тождество мышления и бытия, мыслителя и мысли, субъекта и объекта, причем таким образом, что, подобно интеллекту Плотина, оно устанавливает себя через свое мышление и имеет всю свою реальность только в самом мышлении. Таким образом, то, что позднее Декарт утверждал об индивидуальном «я», а именно, что мышление (genitivus objectivus) есть мышление «я» (genitivus subjectivus), Плотин утверждает об интеллекте: его реальность на основе его эффективности мышления, которое имеет только себя в качестве своего содержания.
Но было бы величайшим заблуждением предполагать, что античный философ сам имел в виду идею эго или сознания, когда определял интеллект. Когда более поздние философы пытались определить реальность в плотиновском смысле через мышление и понимали тождество субъекта и объекта или сознания как наиболее подходящее выражение для природы бытия, они, однако, исходили из собственного самосознания и выводили бытие из моментов эго, абстрагируясь от его индивидуальных характеристик. Таким образом, они фундаментально стояли на почве cogito ergo sunt и использовали сознание, чтобы прийти к бытию из него. Из непосредственного опыта субъективного мышления они получили понятие объективного и абсолютного мышления. Напротив, Плотин, как и они, получает определения сознания или Я из платоновской концепции объективного мышления, поскольку он не только просто утверждает тождество этого мышления с бытием, но и позволяет ему быть опосредованным в самом себе через процесс движения мышления обратно в себя: интеллект реализует себя через мышление мира идей, который сам есть не что иное, как реальность интеллекта: субъект = объект = тождество субъекта и объекта = Я. Но всякая мысль о мире идей есть не что иное, как реальность интеллекта. Однако следует исключить всякую мысль о наличии «я», сознания, субъективной внутренности или непосредственного внутреннего опыта в сознании самого Плотина; скорее, вышеупомянутые определения были получены им чисто логическим путем, из простого размышления о противопоставлении умопостигаемого и чувственного бытия, и потому имеют для него чисто объективное или объективированное значение; и только это можно сказать, что Плотин тем самым утвердил в абстрактной объективности те моменты, которые, согласно взглядам современников, составляют суть субъективной духовности.
Характерной особенностью всей античной философии является то, что ей чуждо современное понятие сознания, субъективной внутренности как таковой. Все ее определения, взяты ли они из чувственного, физического внешнего мира, как принципы натурфилософов досократовского периода, или имеют духовный смысл, как идеи Платона, энтелехия или самореализующиеся понятия Аристотеля, мир-душа стоиков и т. д., носят объективно-представительный характер и тем самым лишь вновь и вновь обнаруживают пластическое чувство древних, направленное на созерцание внешних объектов. Последний великий мыслитель античности, Плотин, не составляет исключения, поскольку он также принципиально придерживается объективного характера мышления. Однако своими определениями он доводит античную мысль до того, что в объективном обнаруживаются первые общие очертания субъективного, где объективное, внешнее превращается в реальность собственного внутреннего бытия, а сознание сияет из бытия. Однако, поскольку Плотин в своем определении интеллекта лишь чисто диалектически развивает содержание умопостигаемого в противопоставлении разумному, совершенно неверно говорить, как это делали до сих пор почти все выразители Плотина, что он уже «боролся» здесь с понятием сознания или что он даже «подозревал» объем своих определений, направленных на это. У Плотина было так же мало представлений о понятии сознания интеллекта, абсолютного сознания как такового, как у Аристотеля о сознании, или эго, или даже об «абсолютной личности», когда он пытался понять Бога, конечную кульминацию своей системы, как «мышление мышления». Скорее, это определение появилось только в результате систематического интереса к тому факту, что, согласно Аристотелю, реальность представляет собой царство уровней понятий, реализующих себя в материи, где ранжирование существ определяется степенью преобладания мыслительной деятельности над пассивной материальностью. Именно так Плотин определял интеллект как тождество мышления и бытия или как саморефлексию, поскольку абсолютной действенностью и реальностью может быть только мышление, которое имеет бытие или объект не вне себя, а внутри себя и, таким образом, отражается в себе, имеет себя в качестве своего объекта. Но как мало Аристотель осознавал, что этим определением он основал новый вид духовного бытия, сознание-бытие в противоположность объективному мышлению-бытию, так и Плотин не считал, что своим определением интеллекта, отраженного в самом себе, он выходит за прежние рамки античной философии. Действительно, своей концепцией умопостигаемого бытия он даже сознательно вернулся к Аристотелю с его «мышлением о мышлении» и даже в этом отношении нашел свою заслугу совсем в другом месте, чем в том, что ввел в предшествующую философию совершенно новое понятие, которому суждено было расшатать последнюю.[30 - Согласно этому, самомышление интеллекта ни в коем случае нельзя обозначать выражением «сознание», как это делали до сих пор все переводчики и выразители философа, поскольку это вменяло бы ему мысль, которая лежит полностью вне сферы его видения и чье несуществование как раз и является характерной чертой его определения интеллекта.]
Если сравнить плотиновский интеллект с трансцендентным Богом Аристотеля, то, согласно Аристотелю, Бог есть не что иное, как абстрактная всеобщность отраженной на себе деятельности самого мышления, пустая форма мышления, имеющая в качестве своего содержания саму пустую форму, «бессодержательная деятельность мышления, которая думает о себе как о бессодержательной деятельности, чтобы найти в себе содержание, которого ей недостает.[31 - v. Hartmann: a. a. O. 70.]
Однако интеллект Плотина по своей природе также является деятельностью, «мышлением о мышлении», но мышлением, содержанием которого является не деятельность мышления как таковая, а мир идей, мышление, наполненное содержанием всего умопостигаемого космоса и потому конкретное, мышление, которое мыслит себя лишь постольку, поскольку мыслит идеи. В своей концепции интеллекта Плотин, таким образом, объединяет аристотелевское определение самостоятельно мыслящей мысли с платоновским миром идей; и так же, как он тем самым помогает последнему обрести определенное содержание, он освобождает его от чар жесткой неподвижности и понимает его как абсолютную жизнь.
Платон представлял себе мир идей как царство неизменных сущностей, концептуальное «участие» которых друг в друге оставалось для него столь же неодушевленным и неопределенным понятием, как и их идеальное сосуществование и со-бытие. Согласно Плотину, интеллект, как совокупность идей, есть живое движение реализующихся понятий, которые активно отличают себя друг от друга, сливаются друг с другом по собственной воле и восходят к всеохватывающей тотальности логической субстанции. Именно в этом состоит различие между концепцией идей Шеллинга и Гегеля. Платоновские идеи, как и идеи Шеллинга, – это неподвижные, субстанциальные сущности. Идеи же Плотина, как и идеи Гегеля, – это живые духовные силы, заключенные в интеллекте, подобно видовым понятиям в родовом понятии, и как таковые составляют сущность и реальность интеллекта; более того, они таковы до такой степени, что под его рукой превращаются в мыслящих духов, как это было у Филона, и таким образом, конечно, снова обретают кажущуюся независимость и автономию друг от друга. Если мы вспомним наше предыдущее объяснение, согласно которому Плотин лишил трансцендентные, сверхчувственные идеи Платона их абстрактной концептуальности и понял их как единицы общего и особенного в смысле Аристотеля, то теперь мы можем описать его учение об интеллекте во всех отношениях как синтез Платона и Аристотеля, таким образом, что он берет от последнего конкретность и жизненность, от второго – сверхчувственность и многозначную объективность мира идей в свою идею интеллекта.
Идеализм Платона, который рассматривал идеи как простые выведенные понятия или типы, лишенные собственного содержания и жизненной силы, является в этом отношении абстрактным идеализмом. Идеализм Плотина, напротив, – идеализм конкретный, ибо мир идей предстает здесь не только как множественность содержательных или конкретных логических форм и функций, но и как их активное отношение друг к другу или как умопостигаемое движение идей. Платоновский мир идей представляет собой царство объективных, самодостаточных мыслей, обладающих жесткой неизменностью, тогда как плотиновский мир идей представляет собой объективное, сверхчувственное царство мысли, в котором мысли существуют лишь постольку, поскольку они мыслятся, и мыслятся лишь как моменты, связанные с содержанием определения и особенности функции мысли. Эта плотиновская концепция мира идей, таким образом, гораздо ближе к нашему образу мышления, чем платоновская, она, так сказать, гораздо современнее; и если Платон заслуживает того, что впервые придумал и метафизически использовал понятие идеи, то только Плотин действительно сделал это понятие плодотворным для спекуляций и тем самым придал ему долговременное значение. Фактически, все последующие философы, которые так или иначе оперировали метафизической идеей и пытались объяснить мир из интеллекта, следовали в этом отношении не за Платоном, а за Плотином, даже когда они ссылались на авторитет Платона и провозглашали себя его учениками. Сам Плотин, похоже, не осознавал своего отличия от Платона; поэтому он также считал, что его взгляд на мир идей – это просто отражение взглядов Платона. —
То, что это фактически исторически несанкционированное введение современной идеи в мировоззрение античного философа, если ему приписывается предположение о сознательном интеллекте, ясно из определений самого философа. Сам факт, что Плотин в бесчисленных отрывках своих <Эннеад> прямо подчеркивает чисто интуитивный способ мышления интеллекта и отказывает ему во всякой обдуманности и дискурсивной рефлексии, должен помешать нам представить себе интеллект как сознательное существо, как «абсолютное сознание». Ибо сознание невозможно без рефлексии и временности; оно возможно только как постоянное сознание, как временное (дискурсивное) развитие логического содержания, которое само по себе надвременно; вечное, вневременное, интуитивное сознание, следовательно, также является деревянным железом. Сознание есть ощущение, способ бытия ощущений, и предполагает, что человек находит в себе нечто такое, чего раньше в нем не было и что он также не помещал в себя непосредственно. В сфере же умопостигаемого содержание устанавливает себя в абсолютной спонтанности; здесь каждая идея непосредственно содержится в другой, все переливается друг в друга, каждая абсолютно ясна и прозрачна для другой. Но это также исключает возможность сознания. Сознание основано на воздействии двух различных факторов, внешнего стимула, с одной стороны, и психической функции субъекта, который получает и обрабатывает этот стимул, с другой, и поэтому немыслимо без пассивности. В интеллигибельном же вообще нет ничего пассивного, а есть только абсолютное действие или энергия; только в этом смысле оно является истинной реальностью, потому что оно есть истинная, то есть абсолютная, действенность, и субъект и объект в нем не отличаются друг от друга. Сознание – это отражение чуждой реальности, которая таким образом переходит из сферы бытия в сферу мышления. Рассудок же не мыслит реальность, отличную от себя, а создает реальность своим мышлением, и его мысль об этой реальности есть одновременно и ее бытие.
Поэтому Плотина можно назвать скорее «отцом философии бессознательного», чем «отцом философии сознания»; ведь интеллект Плотина в его тождестве субъекта и объекта, смотрящего и видящего, или как интеллектуальное созерцание, в точности соответствует бессознательной, сверхсознательной идее Шеллинга и Гартмана, которая, таким образом, впервые в истории западной мысли появляется у Плотина.[32 - Как известно, сам Шеллинг в первый период своего творчества называет интеллектуальное созерцание или самовосприятие абсолюта, абсолютное познание как тождество субъекта и объекта, в его отношении к знанию и сознанию «абсолютным сознанием», не понимая, однако, под этим ничего иного, кроме бессознательного абсолютного знания. «Только тогда, – говорит он об этом тождестве, – я поверю, что вы действительно признаете его в себе и имеете о нем интеллектуальное представление, когда вы также освободили его от его отношения к сознанию» (I. 4. 256). Выражение «абсолютное сознание» служит лишь для того, чтобы симулировать возможность его непосредственного познания и тем самым априорного выведения или конструирования вселенной из бессознательного, но было прямо отвергнуто самим Шеллингом. (Ср. мою работу: «Die deutsche Spekulation seit Kant mit bes. R?cksicht auf das Wesen des Absoluten und die Pers?nlichkeit Gottes [1893] BI 127.)]
Три момента интеллекта – субъект или функция восприятия, объект или содержание восприятия и их тождество – понимались Плотином не как моменты сознания (эго), а как предсознательная и бессознательная духовность. Тем не менее, возведение Плотина в ранг отца философии бессознательного представляется столь же сомнительным, как и философии сознания.
философии сознания. Строго говоря, он не является ни тем, ни другим, потому что его мышление все еще полностью предшествует этим различиям и находится вне их. Они уже присущи ему, и фактически он стоит в своей концепции идеи именно на той точке зрения, которую установили Шеллинг и Гартман, но сам он все еще не имеет ясного осознания объема и значения своих детерминаций. По этой причине философия сознания (через Августина, Оккама и Декарта) также развилась из мировоззрения Плотина, и это мировоззрение смогло послужить основой для христианского теизма на протяжении всего средневековья, точно так же, как философ бессознательного недавно смог сослаться на Плотина как на своего величайшего предшественника. То, что в основе концепта философии сознания и теизма лежит ошибочное толкование Плотина и что непосредственное переживание реальности плотиновского интеллекта в его триединстве моментов в собственном самосознании или эго является наивно-реалистической иллюзией, не вызывает сомнений у того, кто хоть немного глубже вник в смысл плотиновских определений. Ибо самовосприятие интеллекта есть лишь объективное восприятие мира идей, тождественного самому интеллекту, и не что иное, как абсолютное самосознание. Однако трагической судьбой западной философии стало то, что под фальсифицирующим влиянием христианского догматизма, с одной стороны, и абсурдного по своей сути стремления к аподиктическому познанию истинно реального, с другой, она была подтолкнута к этому ошибочному взгляду; в результате она и по сей день заблуждается в том, что обладает реальным, действительно реальным par excellence, сознанием. Лишь недавно, благодаря концепции бессознательного, эта ошибка предшествующей философии была в корне преодолена, весь христианский период в истории философии, имевший место за это время, с его уравнением сознания и бытия, был рассмотрен как одна большая ошибка, а связь с Плотином восстановлена заново. Насколько, однако, остальная философия за это время утратила связь с античным развитием мысли и насколько она впала в предрассудки противоположного направления, ничто не доказывает яснее, чем ее противодействие понятию бессознательного, ее утверждение, что это понятие «немыслимо», и это при том, что вся античная философия, начиная с Платона, имела представление об объективном мышлении, а Плотин дал этой идее более близкое развитие, не думая о сознании.
С другой стороны, нельзя упускать из виду, что понятие бессознательного не могло быть по-настоящему понято и реализовано в своем значении до тех пор, пока не было установлено понятие сознания, но последнее, вероятно, никогда не приобрело бы такого огромного значения и не стимулировало бы его разработку, если бы не было основано на надежде использовать его для исчерпания сущности реальности, будь то в религиозных или чисто научных интересах. У Плотина действительно было понятие бессознательно-духовного, но он еще не осознавал его как понятие бессознательно-духовного. По этой причине философия сначала должна была пройти долгий путь развития, чтобы прийти к понятию сознания, причем само «бессознательное» Плотина должно было служить указателем и путеводной звездой; и еще более долгий путь развития был необходим для того, чтобы измерить глубину сознания, прояснить его смысл и доказать, что сознание как таковое никогда не может быть сущностью в том смысле истинной реальности, который имел в виду Плотин. Понятие бессознательного формируется в оппозиции к понятию сознания, отсюда и его негативная формулировка. Но оно означает не что иное, как то, что Плотин определял как сущность интеллекта, а именно сверхчувственную интуитивную духовность как истинную реальность и действенность бытия и сознания. В этом смысле философия бессознательного также может рассматриваться как синтез первоначального античного представления о духе как объективном мыслительном процессе и современного представления о нем как о сознании. Она приписывает сознание конечному разуму, конституция которого обусловлена природой, но рассматривает абсолютный разум, сущность, основание, предпосылку конечного разума, как предсознательное, сверхсознательное – бессознательное.[33 - Часто звучащее утверждение, что непонятно, каким образом бессознательное должно обозначать более высокую форму существования, чем сознание, находится, таким образом, на том же уровне, что и другое утверждение, что духовное существование не имеет ничего предшествующего чувственно-природному существованию. Задача философии – отличить сущностное, изначальное, субстанциальное бытие от кажущегося, объективного, случайного; и действительно, весь прогресс науки состоит в том, чтобы все более точно определять эти различия. Но тогда осознание сознания как всего лишь вторичного бытия и его подчинение бессознательному также должно рассматриваться как столь же великое достижение, как и платоновское понимание того, что духовное бытие в целом превосходит природную реальность.]
4 Единое.
а) Негативное определение Единого
Если мы теперь вернемся к основному вопросу всей плотиновской философии, вопросу об Усии, то Плотин понимал здесь под предпосылкой всякого определенного и обусловленного бытия всеобъемлющее необусловленное, первооснову и носительницу вещей, которая, следовательно, поскольку зависимое и относительное не является актуальным, составляет бытие в истинном и высшем смысле. Теперь мы только что признали интеллект как «то, что существует», понятие, как конкретное единство всего идеального универсума, абсолютную идею, как называли ее Шеллинг и Гегель, интеллектуальное представление в его тождестве бытия и мышления. И интеллект действительно составляет основу и предпосылку чувственно-физического существования, поскольку через него задаются все детерминации этого существования. Мир чувств казался Усией, но именно его небытие и бессущностность послужили толчком для обращения мышления к сфере умопостигаемого в поисках Усии. В чувственно-физическом мире, состоящем из формы и вещества, видимость усии цеплялась за вещество, которое, в частности, стоики определяли как усию. Однако при ближайшем рассмотрении оказывалось, что именно материя противоположна усии, что именно она является причиной ее отсутствия независимости и иллюзорной природы, в то время как форма утратила свою независимость и оригинальность в результате слияния с материей и превратилась в нереальный образ истинной усии. Лишь с восхождением к умопостигаемой сфере в форме или мире идей, чистом от всякой материальности, было открыто царство истины и подлинной реальности, а с обобщением моментов содержания в понятии интеллекта была постигнута подлинно реальная вещь. Истинно реальное – это истинно действенное. Энергия мысли соответствует в интеллекте истинной действенности, а ипостась мысли, задаваемая интеллектом, соответствует истинной реальности, и обе они тождественны. Итак, интеллект как единство видящего и видимого, в котором бытие и мышление не являются, как в мире чувств, различными и зависимыми друг от друга, но оба абсолютно тождественны, есть usia; и эта истинная интеллигибельная usia состоит в своей части из энергии и ипостаси, из мышления и бытия или из видящего и видимого, так же как очевидная чувственная usia состоит из формы и вещества.
Но если интеллект также является usia, то действительно ли он во всех отношениях соответствует плотиновскому определению usia? Интеллект является истинно реальным в той мере, в какой он является истинно действенным. По этой причине он также независим и необусловлен по отношению к обусловленному и зависимому миру чувств. Но интеллект не есть абсолют, совершенно независимый и самодостаточный, возвышенный вне всякой связи и зависимости, настоящий абсолют; и именно в нем, по мнению Плотина, следует искать сущность искомой усии.
Разум – это действительно единство видения и бытия, тождество мышления и бытия; тем не менее, в нем все еще можно различать, они предполагают друг друга, они соотносятся друг с другом, они взаимообусловлены. Мышление или зрение – ничто без видимого или сущего, видимое или сущее – ничто без функции видения или мышления. Интеллект требует интеллигибельного мира или мира идей, интеллект требует интеллекта как своего необходимого дополнения. Только в своей двойственности мышление и бытие, функция видения и содержание видения составляют интеллект, а интеллект есть «то, что существует» лишь постольку, поскольку он есть и мышление, и мысль (V i, 4). И интеллект – это не только двойственность, но и один момент этой двойственности, содержание восприятия, мир идей, сам содержит в себе множественность моментов: интеллект является таковым лишь постольку, поскольку он открывает себя множественности идей; через мышление он, таким образом, сам становится множественным (VI7, 39). Но то, что множественное, что содержит в себе момент числа и чьи детерминации существуют только друг в друге и друг через друга, как, например, энергия и ипостась, мысль и мысль в интеллекте, не стоит, следовательно, вне всяких отношений; и, следовательно, умопостигаемая usia, поскольку она много и одна, не может быть конечной и первоначальной вещью, не usia в высоком смысле слова, не та usia, которую на самом деле искал Плотин.
Истинно конечное, первоначальное основание и носитель всех определений, усия в абсолютном смысле слова, не может быть, подобно интеллекту, многоединым. не может быть, как интеллект, многоединым, но только единым, лишенным множественности. Однако как таковое это Единое должно быть предшествующим двойственности и множественности; следовательно, как общее основание мысли и бытия, интеллекта и мира идей, оно должно лежать вне интеллекта, в третьем, которое само не представляет собой ни одного, ни другого из двух составляющих детерминаций умопостигаемой Усии (III 8, 9; V i, 5; V 6, 2).
Усия в смысле подлинно изначального и независимого также лежит за пределами умопостигаемого и поэтому уже не может быть описана как нечто рациональное или логическое. Однако Единое не должно рассматриваться как неразумное, поскольку оно находится до и вне разума, но скорее должно определяться как сверхразумное, превосходящее разум. Поскольку оно предшествует рассудку, а рассудок, как я уже говорил, есть тождество мышления и бытия, Единое, кроме того, стоит как над мышлением, так и над бытием, оно не требует последнего для своей сущности (VI 7, 38). Однако это не небытие, не то, что вообще не существует, а скорее то, что не нуждается в бытии, сверхбытие, как назвал его Шеллинг, которое мы можем также описать как пред-мыслие. Плотин называет это «благом» в связи с тем, что Платон понимал это выражение как определяющее основание всех других идей, и он убежден, что его представление о благе или Едином, вышедшем за пределы идеального мира, лишь отражает смысл платоновской концепции. Он вспоминает, что Платон также говорил об «отце причин», отождествляя последнего с миром идей и, таким образом, также предполагая со своей стороны существо, предшествующее интеллекту, нечто возвышенное над реальностью. Однако он упускает из виду, что для Платона мир идей на самом деле был высшим и конечным и что он также рассматривал «благо», как основание идеальной реальности, лишь как одну идею среди других идей, в то время как сам он также выводит благо-одно за пределы сферы идеи. Он ссылается на мнение элеатского Парменида, который еще до Платона приравнивал сущее к интеллекту, утверждал тождество бытия и мышления и отличал умопостигаемую реальность от обычной физической; впрочем, сам Парменид уже объявил это тождество предельным, игнорируя содержащуюся в нем двойственность и даже множественность. Анаксагор же считал Первое простым и Единым, отделенным от остальной реальности, и ошибался лишь в том, что считал интеллект таким же простым и Первым, а Гераклит и Эмпедокл, со своей стороны, также отделяли умопостигаемое от умопостигаемого. Аристотель согласен с ними в этом, но, как и Парменид, он тоже ошибался, считая интеллект первым, несмотря на его двойственность. Поэтому Плотин считает, что, помимо Платона, пифагорейцы ближе всего подошли к его взглядам, поскольку они не только считали Единое или Монаду выше чувственной реальности, но и отрицали всякую множественность и детерминированность. После всего этого он считает себя вправе рассматривать свою доктрину как простое последовательное развитие тех взглядов, которых уже придерживались прежние философы, и приписывает себе лишь одну заслугу: он развил, обосновал и уточнил то, что уже по существу было высказано его предшественниками (V 1, 8 и 9).
Поскольку Единое предшествует интеллекту и находится за пределами бытия и мышления, оно не обладает ни одной из тех детерминаций, которые мы выделили в сфере умопостигаемого. Следовательно, Единое – это не жизнь, не умопостигаемое движение, но и не покой, не функция или энергия, не ипостась, поэтому оно также не есть Усия в смысле истинной реальности, ибо это – продукт энергии через посредничество ипостаси; Единое, однако, не производится ни самим собой, ни другим, потому что кроме него нет ничего, посредством чего оно могло бы быть произведено, но нечто не может само себя установить или привести к ипостаси (III 8, 10; VI 7, 40; VI 8, 10, 11; VI 8, 7; VI 8, 10; VI 9, 3 и 6). 6). Кроме того, Единое не есть отношение, как интеллект, поскольку оно выше всякой множественности, но отношение предполагает по крайней мере двойственность (V 6, 4). Оно не есть свойство, лишенное всякой формы, предела и определенности, а потому и не прекрасное: абсолютно бесконечное, неограниченное и потому также бесформенное (V 5, 6 и 11; VI 9, 5 и 6). Поскольку оно не есть энергия, то, следовательно, оно также не имеет воли, а значит, не обладает свободой (VI 8, 8 и 11). Действительно, строго говоря, Единое – это даже не благо в этическом или телеологическом смысле этого слова, поскольку в этом случае оно было бы поставлено в связь с чем-то другим; но оно само находится за пределами или, скорее, над всеми связями и поэтому может быть также более точно описано как «сверхблаго». Единое хорошо только для нас, а не само по себе; оно хорошо только для всего остального, постольку поскольку вещи нуждаются в нем, чтобы существовать и быть хорошими в этическом и телеологическом смысле. Само оно, однако, не нуждается ни в чем другом, но достаточно само по себе; оно не ищет ничего другого, чтобы быть или быть хорошим или претерпевать, оно не нуждается в другой поддержке, не опирается на другого, оно несет себя, как бы покоится в себе, абсолютно независимо, не нуждается и удовлетворено в себе (VI 7, 42, 8, 21; VI 9, 3; VI 9, 6). Поскольку Единое не находится в другом, а все остальное находится в нем, оно также не находится в определенном месте: оно надпространственно, как и надвременное; оно находится в себе, но само охватывает все остальное, дает ему опору, не будучи поглощенным им, поэтому оно везде и нигде, или, что означает то же самое, вездесуще (V 5, 9; VI 8, 16; VI 9, 3).
Как нечто, находящееся над интеллектом и потому вне- или металогическое, Единое не может быть постигнуто даже в логических определениях. Ни одна из возможных категорий не может быть к нему применена. Оно абсолютно отлично от всего, что только каким-то образом может быть содержанием нашего мышления. Поэтому оно не менее недоступно для языка, чем для мысли. Никакое имя не обозначает его, никакое понятие не постигает его; оно просто невыразимо и невыразимо (V 3, 13; VI 8, 11). Мы можем только сказать, что оно есть, но не можем сказать, что оно есть, поскольку оно лишено всякой определенности (V 3, 14; V 5, 6). Поэтому, когда мы говорим о нем, мы говорим только о том, чем оно не является, но не о том, что оно есть (V 3, 14). На самом деле мы даже не можем сказать, что оно есть, в том смысле, в каком мы говорим это о других вещах, ибо, поскольку, как мы уже говорили, оно также находится за пределами бытия, к Единому нельзя применить даже определение бытия. Поэтому Единое – это вообще ничто, то есть не нечто; кто дает ему, тот берет у него (V), 13). Но как же мы тогда приходим к предположению о существовании такого Единого? Мы выводим его из его следствий (v 3, 14). Мы воспринимаем Множество и чувствуем, что вынуждены предположить Единое как его основание. Мы предполагаем это единое основание многих вещей и поднимаемся от чувственной множественности к умопостигаемой, от нее – к лишенному множественности Единому; но, конечно, как только мы наделяем это основание положительными определениями, мы оказываемся в преувеличенном и беспочвенном.
Следовательно, выражениям «Единое» и «Благо» нельзя приписать позитивный смысл. В самом деле, при определении Единого исключается и мысль о численном единстве, ибо оно состоит из единиц; истинно Единое, напротив, совершенно просто (v 5, 4). По мнению Плотина, обозначение Единого, таким образом, выражает лишь отрицание всякой множественности и, следовательно, отсутствие всякой определенности, в связи с чем он вспоминает пифагорейцев, которые символически назвали бы высший принцип Аполлоном (? ??????), чтобы исключить множество. Это не Единый, то есть определенный (s’v), но Единый, Единый par excellence (???? ??) в отличие от всего определенного (ст. 3, 12). Но мы уже видели, что это обозначение применяется не к благу самому по себе, а только в его отношении к тому, что от него зависит. Строго говоря, мы вообще не должны давать Единому имя и делать о нем какие-либо заявления. Но поскольку мы должны говорить о нем в философской дискуссии, мы называем его Единым и Благом, стремясь представить его нам как можно лучше (V 5, 6; VI 9, 5).
b) Позитивная самореализация Единого.
Но как? Если Единое есть также только благо по отношению ко многим, которые обретают существование и сущность только благодаря своей связи с Единым, то не отменяет ли это утверждаемую абсолютную несвязанность Единого? Конечно, до Единого нет ничего, поскольку Единое само есть Первое, и поэтому бессмысленно спрашивать о причине Единого (VI 8, n). Но все, что есть после Единого, является таковым только через Единое, порождено Единым, обусловлено им и зависит от него. Мы приходим к этому понятию, только представляя Единое как основание Многого и тем самым предполагая причинно-следственную связь между ними. Если мы обозначим интеллект как предполагаемое основание мира чувств, то Единое будет основанием интеллекта, а значит, и основанием основания: это первооснова и первопринцип, всеобъемлющая необусловленность, которой все присуще, из которой все возникло, от которой все зависит, но которая сама не зависит ни от чего другого (VI 8, 18; V 5, n; I 7, i).
Будучи первоосновой и первопринципом реальности, Единое само по себе не обладает никакой реальностью, но оно есть способность или сила реальности, активный динамис, потенция действия, лежащая в основе энергии или действенности. Плотин называет способность к действенности волей, хотя и в панлогистическом смысле, не выделяя ее как особую способность из мысли, поскольку энергию он понимает только как мысль. Как таковое, Единое есть воля. В этом отношении она раньше и больше воления, которое относится к ней, как функция к потенции, как рассудок к своему основанию; это воление, которое своей деятельностью выбрасывает завещанное в бытие (VI 8, 9 и 13). Таким образом, все изначально есть воля, ничто не предшествует воле, и, следовательно, она сама есть первая, воля (VI 8, 21). Поэтому она не есть воля отличного от себя существа, о котором она может быть заявлена как предикат или чье определение она образует, но как воля она есть само Единое. Как мышление тождественно с бытием и потому является деятельностью, абсолютно лишенной субстрата, так и воля, которая, кстати, также тождественна с мышлением; и как сущность интеллекта состоит в деятельности как таковой, так и у Единого его воля и действие сами по себе являются его сущностью (VI 8 13).
Ясно, что этими определениями Плотин стремится не к чему иному, как к понятию абсолютной субстанции, которая в то же время является абсолютным субъектом. Но он представляет себе Единое в его абсолютной неопределенности как независимое и отдельное существо и тем самым ставит себя в затруднение, что оно не мыслимо таким образом и не может быть основанием и носителем детерминированной множественной реальности. Плотин разделяет присущее ему противоречие со всеми спекуляциями поздней античности, опирающимися на Платона, и прежде всего с Филоном, чье представление о божестве наиболее решительно напоминает его собственную концепцию Единого. Ведь все они, в сущности, преследуют одну и ту же цель – вывести бытие за пределы всякой относительности и множественности, чтобы сделать его доступным для познания, поскольку, как показал скептицизм, до тех пор, пока бытие относительно, оно не может быть подлинно реальным, а простое относительное знание не может быть действительным и истинным знанием, знанием подлинной реальности (ср. с. 15 и далее выше). Выше понятия мышления стоит понятие бытия, поскольку последнее все же включает в себя множественность и особенность, а значит, и отношение; выше интеллекта – Единое. Но то, что субъективное понятие обладает также объективной (метафизической) реальностью, является, как мы видели, фундаментальной предпосылкой всего платонизма. Таким образом, высшее понятие, к которому восходит наше мышление, – понятие Единого – должно обладать и реальностью, свободной от всех детерминаций, или чистым бытием, независимо от того, что предикат бытия уже был отнесен Платоном к миру идей, что «истинная реальность» относится к сфере рассудка и что Единое, как основание рассудка, на самом деле не может быть названо «бытием». Согласно Платону, понятие бытия в смысле genitivus objectivus было понятием бытия в смысле genitivus subjectivus, понятие бытия было бытием понятия, и бытие как таковое само было понятием (идеей). В том же смысле Плотин определял интеллект как понятие или мышление о бытии как в субъективном, так и в объективном смысле, а именно в сфере метафизического. Следовательно, он рассматривал интеллигибельный принцип мира чувств как тождество мышления и бытия, субъекта и объекта. Теперь он снова применяет то же самое размышление в том смысле, что интеллект есть мышление бытия (Gen. sitbj.), как самостоятельное существо, и таким образом приходит к предположению о бытии, стоящем выше и раньше мышления, о сверхчувственном и предмыслящем принципе мышления, о котором «бытие» интеллекта постулируется мышлением и которое, если оно само называется «бытием», должно быть, во всяком случае, бытием в более высоком смысле, чем бытие интеллекта. Верно то, что понятие множественности фактически предполагает понятие единства (V 3, 12, VI 1, 26), что относительное не мыслимо без абсолютного, благодаря которому отношения становятся возможными в первую очередь. Упустить это из виду, растворить бытие в одних лишь отношениях без абсолюта и тем самым не продумать до конца свою идею логического расчленения бытия – такова была фундаментальная ошибка скептицизма. Однако вместо того, чтобы представить единое как таковое во множестве, абсолютное как имманентное относительному, Плотин выводит его за пределы мира идей, чтобы оградить его от смешения с множественностью и детерминированностью. Таким образом, он рассматривает его как Единое вне Многого, как Абсолют, трансцендентный относительному, и ради чистоты этого понятия он чувствует себя вынужденным сделать Единое, как и Многое, независимым, гипостазировать его, отделить интеллект от Единого и приписать ему собственную реальность вне Единого и помимо него (V 5, 13; VI 7, 40). Плотин ищет носителя реальности, то, что абсолютно не связано и самосуществует, усию как первооснову и первосущество реальности. Он очень верно признает, что этим условиям не отвечает даже умопостигаемая усия, интеллект или абсолютный разум, поскольку она все еще остается чем-то составным, многогранным и определенным и даже принадлежащим к сфере отношений. За умопостигаемой usia еще должно быть что-то, поскольку ее составные части или моменты также нуждаются в чем-то, чему они присущи, и поэтому она еще не является конечной вещью; а это может быть только единое, поскольку множество нуждается в чем-то, чем оно связано, в общем основании, из которого оно проистекает, в носителе или опоре, на которую оно, как самостоятельная вещь, опирается. Ошибка Плотина состоит лишь в том, что он разрывает множество и единое, помещает субстанцию, которая, как единое, может быть только абсолютной, в ее абстрактной бессодержательности, с одной стороны, в множественность ее детерминаций под обозначением интеллекта – с другой, и затем, чтобы сделать понятие субстанции без множественности плодотворным для объяснения, предполагает причинную связь между ней и множеством, что тем не менее отменяет утверждение о ее абсолютном отсутствии связи и недетерминированности.
В действительности субстанция является таковой только как носитель своих свойств, субъект – только как носитель своих функций, причем свойства и функции существуют не самостоятельно и сами по себе, а только как определения и зависимые моменты своей субстанции или связанного с ней субъекта. Свойства и функции абсолютной субстанции, однако, называются ее атрибутами. Следовательно, интеллект в действительности является лишь атрибутом Единого, то есть он есть только в Едином и из Единого, а без Единого он вообще не существует, что в принципе признает и Плотин. Тем не менее, он рассматривает атрибут как сущее само по себе и противопоставляет бессубстратную потенцию воли столь же бессубстратной абсолютной функции мышления. Теперь субстанция или субъект, понятый в противоположность атрибутам и функциям, – это, конечно, сущность без определения и без множественности. Но в этом смысле она также является лишь искусственным продуктом абстракции, которая держится сама за себя, тогда как реальная субстанция и реальный субъект – это конкретное единство и, следовательно, многоединство, что Плотин допускает только в отношении интеллекта. Таким образом, не противоречивая концепция Абсолюта, имеющего Другого, отличного от себя, не бесспорная абстракция Единого без множественности является истинным Абсолютом, а Единое, которое включает множественность в себя как свою судьбу. Таким образом, субстанция атрибутов или субъект функций остается незатронутой детерминацией: «Субстанция как таковая, по общему признанию, лишена атрибутов, субъект как таковой – функций; но субстанция как таковая и субъект как таковой – это, в конце концов, лишь произвольные абстракции нашего мышления, которые могут быть только в единстве с атрибутами и функциями и мыслимы лишь в отношении к ним».[34 - E. v. Hartmann: History of Metaphysics Vol. I 158.] Поэтому раздувать эти концептуальные призраки в реальные сущности – грубейшая из ошибок.
Философия – это систематическое развитие тех понятий, к которым нас приводит мысль по необходимости из реальности; это незыблемая фундаментальная истина платонизма. Эти понятия включают в себя также носителя свойств, субъекта функций, от которого исходит их действенность и в котором они коренятся.[35 - Допущение «чистой», т. е. несубстанциальной, актуальности, отстаиваемое в античности Гераклитом, в Новое время Лейбницем, Фихте, Шеллингом, Гегелем, а в последнее время Вундтом, Паульсеном и другими, является простой конструкцией из зеленого стола, которая не нужна для мышления и даже не возможна для мышления, а в случае современников представляет собой лишь откат от позиции, уже достигнутой Плотином.]
Но то, что эти понятия, поскольку мысль неизбежно приводит к ним, должны обладать реальностью, независимой от мысли даже в их абстрактной изоляции, что субъективное понятие как таковое должно быть в то же время объективным, – это уже не необходимость для мысли, а фундаментальная ошибка, которой Платон самым пагубным образом повлиял на всю античную философию, и вина этого в том, что Плотин, как бы близко он ни подошел к этому понятию, все же полностью упустил понятие абсолютной субстанции. В итоге единственное, что мстит ему, – это фундаментальная тенденция древних к экстернализации внутреннего, к объективации немыслимого, духовного и субъективного, к его представлению самому себе и приписыванию ему независимой, как бы наглядной реальности. Эта тенденция определила и абстрактный идеализм Платона, а теперь соблазняет Плотина, после того как ему счастливо удалось преодолеть абстрактность платоновского идеализма, увязнуть в абстрактном монизме. Можно лишь сказать, что концепция абсолютно нематериальной субстанции была настолько новой и необычной для античной мысли, что поначалу она смогла постичь ее в чистоте, лишь доведя до крайности и изолировав от всех детерминаций.
Возможно, концепция Плотина о Едином была бы менее противоречивой, если бы греческий язык предоставил ему слово, позволяющее более четко отделить субстанцию от ее атрибутов. Термин usia таким словом не является, поскольку со времен Аристотеля он обозначает соединение вещества и формы, бытия и мысли, тем самым включая в себя детерминированность и множественность, и поэтому не может обозначать истинную субстанцию. Выражения hypokeimenon и hypostasis в буквальном переводе означают что-то вроде субстрата или основания и поэтому могли бы, по крайней мере, выполнить эту задачу и обозначить абсолютную основу всего сущего; но для Плотина они были непригодны, поскольку он уже присвоил стоическому выражению hypokeimenon субстрат чувственного мира, а именно материю, а выражению hypostasis – продукт разумной энергии или мир идей, как основу и идеальное определяющее основание чувственной реальности. Поэтому в конце концов ему не оставалось ничего другого, как снова назвать первооснову и первореальность (= действенность) Усией вместе с Аристотелем, так как это выражение все же ближе всего подходило к тому, что он имел в виду, и имело это значение в народном сознании, или же применить к ней термин ипостась; ведь и она означала для него основание действительности, хотя бы по ее содержанию или идеальной стороне. Что, очевидно, укрепляло его веру в оправданность такого использования терминов usia и hypostasis, так это то, как он пришел к понятию Единого через формулу «мышления бытия». Как интеллект как таковой должен быть мышлением бытия в объективном и субъективном смысле, тождеством бытия и мышления, так и сам он должен быть мышлением бытия в субъективном смысле, а именно энергией Единого, которая выделяет интеллект из себя как продукт через мышление. Но тогда, очевидно, не было ничего более очевидного, чем перенести на Единое вместе с бытием и мышлением все остальные определения интеллекта и тем самым прийти к конкретному понятию Единого, приписав ему все те предикаты, которые первоначально были установлены только для умопостигаемого.