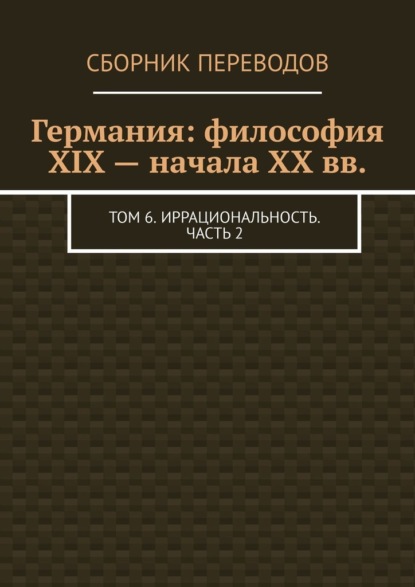По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 6. Иррациональность. Часть 2
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Такое случайное убеждение, которое, однако, лежит в основе реального использования средств для определенных действий, я называю прагматическим убеждением» (Kr. d. r. V., стр. 628, издание Адикеса).
Как видно, прагматическая концепция истины, выдвинутая сегодня Джемсом и Шиллером, по мнению Канта, представляет собой практически самый низкий уровень познания истины. Джемс использовал термин «прагматический», который у Канта всегда имеет пренебрежительный оттенок, по крайней мере, в шкале оценок, хотя бы потому, что Кант радикально отвергает все утилитарные расчеты и занимает более низкую ступень, как когда-то Гёзен и Санскулот: unname превращается в имя чести – лингвистическая переоценка кантовских ценностей. Утилитарное – это подтекст прагматического. И именно это практико-утилитарное sousentendu [непроизносимое – wp] является столь же диссонансным звуком для уха немецкого идеалиста из Кенигсберга, сколь и приятным для уха «умного» американца. Для Канта полезность – это контраргумент против абсолютных моральных ценностей, поэтому прагматически-полезный способ смотреть на вещи или обращаться с ними имеет лишь ориентирующую ценность, как картотеки или алфавитные порядки библиотекарей, которые все же лучше, чем полный беспорядок. Но такой прагматический порядок – это в лучшем случае искусственная, пусть и полезная школьная классификация, но не естественная классификация. По мнению Канта (Werke VI, стр. 315), разница между прагматическим делением школ и законностью деления природы фундаментальна: деление школ предназначено только для того, чтобы подвести существа под названия, деление природы – чтобы подвести их под законы.
Здесь становится понятным все различие между сегодняшним прагматизмом и кантовской версией и концепцией. Кант принял бы прагматический метод, как его сегодня отстаивают Джемс и Шиллер, для «Физики нравов» (сегодня называемой социологией), но не для «Метафизики нравов»; для «Антропологии», но не для «Критики практического разума». Это связано с тем, что прагматический метод может дать нам только правила благоразумия или поведения, но никогда – обязательные, непреложные заповеди, категорические императивы. Он остается ограниченным сферой относительного и терпит полный крах, когда речь заходит об абсолютном. Но именно этого и добивается релятивист Джемс. Для него абсолют – это всего лишь пограничное понятие. Он сознательно отказывается от метафизики морали, чтобы скромно обойтись физикой морали (эмпирико-индуктивной социологией). Если Кант возразит, что с помощью прагматического метода можно в лучшем случае получить простое разделение школ, которое ориентирует, но не разделение природы, которое повелевает, Джемс ответит: это именно то, чего я хочу. Я – диалектический демократ. Поэтому я ненавижу все абсолютное, независимо от того, абсолютный ли это монарх или абсолютная концепция. И те и другие тиранят; но я ненавижу тиранию в любой форме, включая концептуальную. В лучшем случае я мирился с suprema lex как с императивом благоразумия, но никогда как с категорическим императивом voluntas regis – называется ли этот «rex» королем, императором, царем или же он называется бытием, сущностью, Богом; но я подчиняюсь suprema lex salus publica в своих собственных хорошо понятных интересах, потому что я – созаинтересованная сторона, соконститунт и собенефициар. Если «школьные разделения» обладают таким дальнодействием и силой действия, что способны управлять конституционными государствами с сотнями миллионов людей, как это происходит во всей западной культурной системе – парламенты, конституции, республики или монархии, несомненно, являются ничем иным, как школьными разделениями, – то такое прагматическое школьное разделение может при определенных обстоятельствах стать мощной защитой против якобы абсолютного естественного разделения. Абсолютная «концепция» и «категорический императив» – лишь логические братья и сестры абсолютного монарха и абсолютного Иеговы. Именно здесь скрещиваются прагматический релятивизм и платоновско-кантианский концептуальный абсолютизм.
Кстати, термин «прагматический» имел историческое значение задолго до Пирса. Прагматическая санкция» Карла VI определяла австрийское престолонаследие в соответствии с утилитарными соображениями и принципами, служащими интересам общественного благосостояния. Да и в немецком языке умного, расчетливого, благородного человека называют прагматичной головой – без всяких дурных коннотаций. В историографии «прагматический метод» натурализовался гораздо дольше, чем могли мечтать Пирс и Джемс. В «Учебнике исторического метода» Эрнста Бернгейма доктринальному (прагматическому) методу истории посвящен целый раздел (стр. 17f). Суть прагматической историографии Бернгейм определяет следующим образом: На этом этапе материал считается желательным не только ради него самого, но и ради определенных полезных приложений; из произошедшего нужно извлечь что-то для практических целей. Первым вполне обоснованным представителем прагматической точки зрения является Фукидид. Полибий ввел термин: прагматическая история («Истории». Книга I, глава 2). Недостатками прагматического метода историографии являются: Субъективность и тенденциозность в ущерб объективности. И это также те подводные камни, которые философский прагматизм Джемса и Шиллера, как мы покажем позже, должен ловко избегать.
Но не только в историографии прагматический метод был полностью у себя дома со времен Фукидида; он также был знаком нам в изложении истории философии в течение примерно полувека. Где Пирс взял слово «прагматизм», у Канта или у Аристотеля, он и сам не знает. Выражение явно витало в воздухе. Сам Пирс сообщает («Что такое прагматизм», Monist, апрель 1905 г.), что 30 лет назад, в своей первой публикации, упомянутой выше, он, возможно, и ввел в оборот этот вопрос, но еще не слово «прагматизм». Он использовал это выражение только в устной беседе, пока Джемс, который не знал его даже в «Воле к вере», не присвоил его и не сделал философским лозунгом. В своей книге «Лейбниц и Спиноза» (Берлин, 1890) я доказал, что Лейбниц сделал то же самое со своим термином «монада».
Хотя он иногда встречал его у Платона, но только когда он вместе с младшим ван Гельмонтом работал над «Королевой Софией Шарлоттой», он окончательно присвоил этот термин, который ван Гельмонт придал ему большое значение, и ввел его в обиход. Кстати, не только Пирс использовал термин «прагматизм» для обозначения своей теории деятельности; французский мыслитель Морис Блондель, представитель «философии действия», ввел его в то же время, но независимо от него. В своем трактате «Pragmatisme et Pragmaticisme» (Revue Philosophique, 1906, стр. 123) Андре Лаланде рассказывает, что когда Блондель спросил его, как он пришел к термину «прагматизм», он ответил: «Я предложил мне в 1888 году имя прагматизма, и у меня возникло чистое сознание, что я его подделал, ни разу не вспомнив этот мотив» и т. д. В своей работе «Действие» он проанализировал разницу между праксисом, прагмой и поэзисом и выбрал термин «прагматизм» в то время, когда Пирс использовал его только в устном общении. Впрочем, такая «двойственность» случаев не удивительна, тем более что этот термин был предложен прагматической историографией, которая была в моде в то время. Уже в 1867 году Конрад Герман написал «Историю философии в прагматической обработке» (Лейпциг). В этой работе Герман пишет о прагматическом методе в историографии философии, утверждая, что «выражение прагматического кажется ему наиболее подходящим» для его способа изложения истории (Предисловие, стр. VII). «Выражение прагматического обозначает само по себе только то, что является просто фактическим или реально существующим в вещах, и в этом отношении оно, по-видимому, совпадает с концепцией чисто нарративного или чисто эмпирического представления истории». (там же, стр. VIII) Таким образом, Герман сознательно противопоставляет себя спекулятивному методу Гегеля, как он объясняет на стр. 463f.
«Прагматизм – единственный истинно научный принцип обращения с историческим материалом. Суть всего исторического прагматизма состоит в том, чтобы устранить случайность из истории и поставить на ее место каузальную необходимость. Прагматический метод должен объединять данные детали в целые ряды. Прагматическая историография оперирует не принципами, а фактами».
Ранее Конрад Германн изложил свою программу в специальном эссе «Прагматический контекст в истории философии», согласно которому всякий исторический прагматизм имеет «определенный практический смысл». Именно этот «практический момент», по-видимому, и привлекал Джемса. После всего этого ему не нужно было бы давать «старому методу» «новое имя», тем более что метод появляется у Фукидида и теоретиков закона силы среди софистов, а само имя имеет историческое звучание со времен Полибия и философское – со времен Платона и Аристотеля.
III Прагматический метод
Прагматизм» не предлагает нам нового мировоззрения, но он предлагает нам новую тональность, новое звучание, новый жест. И вот теперь, когда название и происхождение прагматизма прояснены, настало время критически рассмотреть сам метод и докопаться до его сути.
Суть прагматического метода заключается в сведении всего логического к телеологическому. Каждый метод классификации вещи, говорит Джемс («Воля к вере», стр. 76), есть лишь метод ее обработки для какой-то цели. Понятия, «роды», – это телеологические инструменты. Абстрактное понятие может быть действительной заменой конкретной реальности только в том случае, если оно соответствует конкретному интересу, который его мыслит. Густав Ратценхофер говорит об «имманентном интересе», который не только представляет собой фундаментальную основу всех событий и действий в мире социальных образований, но и претендует на метафизическое значение. Прагматический метод признает примат практического разума над теоретическим, действия над бытием. Как и у Фихте, а еще раньше у Лейбница, для прагматиста все «бытие» следует из «делания». Джемс дает этому примату следующую версию, характерную для его стиля («Воля к вере», стр. 42: «Основной вопрос о вещах, которые впервые приходят в сознание, – это не теоретический (вопрос): «Что это?», а практический: «Стоп! Кто там?» или, лучше, как метко выразился Горовиц, «С чего мне начать?».
Вслед за Пирсом и Дьюи, Джемс использует «прагматический метод» только «для разрешения философских споров, которые иначе были бы бесконечными» (Прагматизм, стр. 27). Сам Джемс в «Воле к вере» называл этот метод радикальным эмпиризмом. Американский логик Джон Дьюи из Чикаго называет этот метод, как мы уже знаем, «инструментальным» взглядом на понятие истины. Если вновь возникающий опыт может быть помещен в удовлетворительные отношения с другими частями нашего предыдущего опыта, значит, он истинен. Версия, которую дал прагматическому методу американский философ Чарльз Сэндерс Пирс в своем эссе «Как сделать идеи ясными», еще более резкая (см. «Религиозный опыт в его многообразии», с. 412): Убеждения – это правила наших действий. Работа мышления приводит нас к определенным привычкам в наших действиях. То, как мы действуем, и есть весь смысл мысли для нас. Чтобы добиться полной ясности в отношении любой проблемы, нам достаточно изучить, какие чувства вызовет в нас то или иное предположение – сразу или позже – и как мы должны будем организовать свои действия, если наше предположение окажется верным. (См. также «Прагматизм», стр. 28). Наконец, Джемс добавляет свою собственную формулу («Прагматизм», стр. 33). Теории – это не ответы на загадки, а лишь инструменты. Прагматизм не стремится к установлению каких-либо конкретных результатов, а лишь утверждает ценность радикального эмпирического метода. Он «снимает жесткость всех теорий, делает их податливыми и позволяет им работать». Поскольку в нем нет ничего принципиально нового, он гармонирует со многими старыми философскими течениями. Так, она согласуется с номинализмом в том, что везде придерживается индивидуальности, с утилитаризмом в том, что везде подчеркивает практическую точку зрения, с позитивизмом в том, что презирает чисто лингвистические решения проблем, лишние вопросы и метафизические абстракции. (стр. 33)
Волюнтарист Джеймс мог бы пойти еще дальше и включить в число своих предшественников великих волюнтаристов и энергетизм от скотистов до «бытия из дела» Фихте и «воли к власти» Ницше. В действительности прагматизм – это не что иное, как последовательное развитие примата практического разума, не в смысле кантовско-платонистского концептуального реализма, но, безусловно, в стиле того заядлого номинализма, который был в Англии со времен Дунса Скота, Роджера Бэкона и Уильяма Оккама. Ведь эти английские номиналисты, как и Джемс сегодня, сочетали крайний волюнтаризм с приматом практического разума, эпистемологический номинализм с этическим индивидуализмом.
При ближайшем рассмотрении радикальный эмпиризм, номинализм, волюнтаризм, этический индивидуализм и политический либерализм оказываются логически тесно связанными. Не случайно, что эта доктрина зародилась в Англии, непокорной островной стране с ее «Мой дом – моя крепость», «Законом о Хабеас корпус» и «Магна харта». Личность везде занимает центральное место. Когда речь идет о познании, критерием истины является личная убежденность (мы переводим «belief» у James, точнее как «убежденность», хотя Юм все еще называет это «верой»), и она основана на вещи, объекте, отдельном факте. Отсюда культ фактов, которому англичане неустанно поклоняются и уже принесли в жертву формальные гекатомбы метафизических систем. Реален только индивид (universalia post rem [общие понятия вторичны, реальность первична]). Для познания этот индивид – факт, для воли – индивидуальный поступок, для религии и морали – индивидуальная совесть, для государства, наконец, – индивидуальный гражданин. Для vеritеs eternelle [вечных истин – wp] в платоновском смысле у англичан есть лишь слабо развитый орган. Кембриджская школа», английские неоплатоники, шотландцы и современные неогегельянцы, такие как Грин, Кейрд и Брэдли, образуют в Англии лишь боковые линии, в то время как основной поток английской мысли со времен Данса Скота, Роджера Бэкона, Тэмпла и Френсиса Бэкона вливается в русло номиналистско-утилитаристского потока. – И вот уже более шести веков это русло называется: Материя факта.
Не зря Джемс называет Джона Стюарта Милла своим святым покровителем диалектики. Прагматизм продолжает древнюю английскую традицию номинализма, который отпраздновал свои высшие триумфы у Беркли и Юма и увидел свои цветущие мечты в «индуктивной логике» Милля, в рамках биологического метода, который стал доминирующим после Дарвина и Спенсера. Совпадение прагматического метода с результатами Авенариуса и Маха не случайно, так же как и то, что Мах пришел к принципу экономии мышления совершенно независимо от Авенариуса. Если в век эволюционистского мировоззрения, которое у нас в крови со времен Ламарка, Эрасмуса, Дарвина и Лайелла, мы вновь продумаем старые проблемы с точки зрения биологии, которая стала господствующей со времен Чарльза Дарвина и Герберта Спенсера, то мы должны прийти к тем же решениям, поскольку предпосылки мышления имеют сходный характер. Здесь нет никакого конфликта приоритетов, а лишь естественная встреча единомышленников, эмпирически ориентированных мыслителей, которые переосмысливают старые загадки философии. Учитывая схожесть точек отправления, непреднамеренная встреча в точке прибытия не только понятна, но и неизбежна. Сам Джемс время от времени намекает, что прагматический метод берет начало от Аристотеля. Более того, Джемс даже считает Сократа последователем этого направления. Ведь Сократ призывал к эпагогическому [ведущему к общему – wp] методу, который впоследствии Аристотель развил в теорию индукции, при этом не следует забывать, что Аристотеля ложно представляют как одностороннего представителя силлогизма и дедукции. Аристотель имел большее представление об индуктивном процессе, чем все его последователи вместе взятые. Как и в случае с дедукцией, Аристотель заложил логические основы теории индукции. В этом отношении «Новум органон» Френсиса Бэкона лишь оставил дверь открытой. Младший Милль, напротив, прекрасно понимал, чем индуктивная логика обязана Аристотелю. И вот сегодняшний прагматизм снова стоит под созвездием Аристотеля. Точно так же, как сегодняшние энергетизмы восходят через Лейбница к Аристотелю, который впервые разработал динамично-энергетическое мировоззрение (он даже популяризировал термин energeia) на основе теории развития, и точно так же сегодняшние неовиталисты под руководством Дриша и Рейнке берут аристотелевскую концепцию энтелехии [свойство чего-то иметь цель в себе – wp] и ставят ее в центр своей системы, В точно таком же смысле сегодняшние прагматики берут на вооружение концепцию цели Аристотеля, который впервые создал доктрину «практического разума» и требовал ее первенства задолго до Дунса Скота и Канта. В своих «Семи книгах по истории платонизма» Генрих фон Штейн представил убедительные доказательства того, что философская мысль на протяжении двух тысяч лет колебалась взад-вперед между Платоном и Аристотелем. Это так же верно для двадцатого века, как и для его предшественников. Полвека назад Тренделенбург вернул внимание к Аристотелю. Неокантианство под руководством Когена, с другой стороны, помогло Платону одержать победу. Теперь Аристотель снова на вершине благодаря Лейбницу. Сегодня мыслители, интересующиеся биологией, снова группируются вокруг Аристотеля, как и те, кто ориентируется на математику и логику, собираются вокруг Платона. На немецкой почве эта дихотомия выступает под боевым лозунгом: психологизм против логизма, витализм против механицизма, позитивизм против идеализма. В Америке и Англии она имеет формулу: Прагматизм против Трансцендентализма. Tout comme chez nous. [Французская пословица: plus que ca change, plus c’est la m?me chose также применима к философским спорам, школам, названиям партий и «жужжащим» словам. [Чем больше что-то меняется, тем больше оно остается прежним – wp].
Если видеть суть прагматического метода в применении и переносе практического на теоретическое, полезного (силы работать) на узнаваемое, телеологического на логическое, короче говоря, в превращении полезных ценностей в истинные, то этот «новый метод» может опираться на весьма почтенную традицию. Ее основоположником, по верному признанию Джемса, является Сократ. «Это самое прекрасное слово, – говорит Платон (Государство V, 457b), – которое когда-либо было сказано и которое когда-либо будет сказано, что полезное – прекрасно, а вредное – безобразно». Ксенофонт комментирует эту сократовскую мысль, согласно которой полезность должна быть критерием эстетических ценностей, вульгарно, но захватывающе и остро: «Навозная корзина, выполняющая свое назначение, прекраснее, чем неуместно расставленный щит». (III, 8, 3—7 и IV, 6, 9). Полезное и хорошее у Сократа совпадают. Эвдемония, объединение добродетели, знания и счастья, включение практики повседневной жизни в теорию знания было великой страстью Сократа, который, по преданию, проклял тех, кто первым отделил полезное от прекрасного. Как в греческой калокагатии [идеал физического и умственного совершенства – wp] молчаливо требуется совпадение эстетического с этическим, так со времен Сократа формируется своего рода алетогатия [идеал истины – wp], которой Зиммель дал краткую версию: полезность познания производит для нас объекты познания. – И вот Джемс, следуя великому примеру первого прагматика (Сократа), проклял бы того, кто первым отделил полезное от истинного, если бы темперамент и хорошее воспитание позволяли ему вообще проклинать. Кстати, даже Платон, который в первый период своего творчества, вплоть до диалога «Протагор», еще не был столь нереалистичен и враждебен чувствам, как в «Федоне» или «Федре», впоследствии был не прочь сделать уступки «практическому разуму». По крайней мере, мне кажется, что сопоставление «практического» и «гностического», которое так любит Джемс, уходит своими корнями к Платону. В «Государственном деятеле» (258) Платон заявляет: «Есть искусства, которые свободны от всякого действия и содержат только познание. Есть и другие искусства, например, все те, что требуют ручных действий, которые используют науку, имманентную действиям, связанную с ними Naut, в том смысле, что они постигают вещи, которые еще не были сами по себе. В соответствии с этим вся наука может быть классифицирована таким образом, что один вид называется практическим, а другой – просто гностическим. Аристотель идет еще дальше, проводя знаменитое трехстороннее деление: Всякая мысль либо практична, либо поэтична, либо теоретична (Метафизика E 7, 1025. b. 25). Как истинный прагматик, Аристотель определяет мышление следующим образом (Никомахова этика, §2, 1139 a 26): Это мышление есть практическое мышление и практическая истина; в теоретическом мышлении, которое не является ни практическим, ни поэтическим, истинное и ложное занимают место прекрасного и дурного. Даже если истинное и ложное являются содержанием всякого мышления, то содержанием практического мышления является только истина в ее соответствии с правильным стремлением. Доктрина «практического разума» Канта восходит, как верно заметили Брандис и Тренделенбург, к nous praktikos Аристотеля, который основывает всю свою теорию истины на этой фразе, если не в слове, то, по крайней мере, в смысле. Ведь Аристотель также является типичным прагматиком, поскольку он допускает, что весь практический разум связан только с целями. Вся концепция природы у Аристотеля настолько глубоко телеологична, что он осмеливается сделать уже упоминавшееся ранее вопиющее утверждение, что природа ничего не делает без цели или напрасно. По этой причине он не возражает против включения телеологического, которое доминирует в его концепции природы, в логическое, в nous.
Согласно Аристотелю, практический разум заключается в его отношении к целям. Именно поэтому он иногда называет его «практическим разумом, рассуждающим ради цели». Цель (telos) фиксируется раз и навсегда. Здесь нет рассуждений о целях, которые везде самоочевидны, а только о средствах. Врач не советуется сначала с самим собой, должен ли он лечить, ритор – убеждать, политик – издавать ли хороший закон, но, определив себе цель, ищет средства, с помощью которых она будет достигнута (Nicom. Ethics 8, 1112, b, 12). Ибо у нас общее со всеми животными и вообще с живыми существами стремление к радостному и приятному (de anima, ? 414. b. 3). Цель – это высшее руководящее понятие всего практического разума. Как каждое отдельное событие в природе, согласно учению материалистов, должно быть подчинено высшему понятию механической закономерности, так и, по мнению архи-телеолога Аристотеля, каждое отдельное действие должно быть подчинено понятию цели как высшему родовому понятию действия (de anima, ? 10, 433, 15).
Поэтому для Аристотеля цель является высшей предпосылкой, conditio sine qua non [основной предпосылкой – wp] (эта фраза, конечно, уже принадлежит Платону) всех действий, так же как закон или идея, согласно Платону, является необходимой предпосылкой и условием всех событий в целом. Как ни странно, Аристотель – такой же индетерминист, как и Джеймс, который в своей «Воле к вере» (глава IV, с. 121—164) рассматривает «дилемму детерминизма» и приходит к учению о свободе воли, которое Фридрих Паульсен, сторонник немецкого издания книги, отвергает сам (с. VIII). Трактовка Джемса о «случайности» демонстрирует поразительное согласие с аристотелевской доктриной «возможного». Аристотель утверждает (de interpr. 9, 19, 7): Если бы не было свободы, то не было бы и практического разума. Но раз он есть, то должна быть и свобода. И Аристотель, и Джемс игнорируют ту трудность, что с установлением цели как высшего «родового понятия» действия, по Аристотелю, или «предельного понятия», по Джемсу, человек может быть так же мало свободен по отношению к этому высшему родовому понятию, как он свободен в своем анатомическом строении или в своих биохимических процессах по отношению к естественному закону. Если понятие цели является доминирующим понятием для всех действий, независимо от того, называется ли оно энтелехией у Аристотеля и Дриша или доминантой у Рейнке, то каждое индивидуальное действие человека остается подчиненным ему так же, как каждая его физиологическая деятельность подчиняется закону причинности. Ни Аристотель, ни Джемс не могут вывести нас из этой дилеммы индивида и рода, индивидуальной воли и коллективной воли, особи и рода, свободы личности и равенства или связанности родовыми интересами человека, случайности и необходимости, самосохранения и сохранения вида. Это вечная суть всей философии – великая антиномия Вселенной!
Примат практического разума, характерный для Джеймса и представителей «инструментальной» логики, – в крови послеаристотелевской философии Греции. Теоретические интересы повсеместно уступали место практическим. И если у гедонистических учеников Сократа, киников, уже была сильно развита утилитарная жилка, то во всех трех школах после Аристотеля утилитарность стала преобладать не только как критерий действия, но и как критерий истины. Прагматизм является преобладающей доктриной вины в Стои не в меньшей степени, чем в явно утилитарном учении Эпикура. Как мы уже показали, Пирс прямо указал на его зависимость от Стои. Добродетель и знание у стоиков, как и у Сократа, совпадают. Если они также отказываются от термина «практический разум», то тем более резко подчеркивают момент полезности. В своей антропоцентрической самонадеянности они рассматривают всю природу как полезный эффект человека – вплоть до абсурдного преувеличения. Эстетическое сводится к этическому, как и у Сократа. Только прекрасное хорошо, говорит глава школы Хрисипп (Диоген Лаэрций, VII, 101), и в других местах: хорошие поступки прекрасны, плохие – безобразны; прекрасное следует восхвалять, плохое – критиковать. У эпикурейцев утилитарная точка зрения торжествует во всем. В конце концов, они являются ответвлениями теории закона силы, которая берет свое начало от Тукидида и достигает своей кульминации в фигуре Калликла в платоновском «Горгии». Согласно этой теории, обычай и закон, общество и государство, религия и мораль – не более чем продукты общественной пользы. В конце концов, даже концепция Бога мотивирована утилитаризмом и генетически восходит к утилитарным функциям, начиная с Продика в древней софистике.
Таким образом, прагматический метод оказывается одним из древнейших известных нам методов мышления. В античном противопоставлении physis и thesis, природы и закона, которое Демокрит, вероятно, впервые противопоставил вполне осознанно и с резко подчеркнутой продуманностью, прагматический метод выражен ясно и отчетливо; это теория «тезиса», примененная к логике и эпистемологии. Если Джемс описывает фактическую сущность прагматизма как, во-первых, метод и, во-вторых, генетическую теорию истины (стр. 41), то мы считаем, что показали здесь, что прагматический метод так же стар, как и термин «прагматизм». Оба они уже стоят на пороге того «пантеона вечных мыслей», как когда-то назвал философию Гегель. В настоящий момент выявление возраста этого новейшего направления в философии не имеет целью выразить ценностное суждение о его интеллектуальном содержании. Скорее, такое суждение мы сможем вынести только тогда, когда проследим исторический продольный срез прагматизма с помощью систематического поперечного среза, обратившись к его генетической теории истины.
IV. «Генетическая теория истины» прагматизма
Генетическая концепция истины прагматизма чувствует себя уютно и комфортно только вблизи фактов, но чуждо и холодно вблизи абстракций. Для него истина – это «лишь некое общее название для всех видов определенных трудовых ценностей в опыте» (Прагматизм, стр. 43). «Вечные истины» логиков оставляют его холодным до глубины души, в то время как «истины факта» составляют его реальную область. В неустанных попытках логиков, рационалистов и эпистемологических концептуалистов найти идеи, высшие формулы, законы и абсолютные стандарты необходимости и универсальности номиналист-прагматик видит лишь выражение души, нуждающейся в отдыхе, жаждущей окончательного вывода, своего рода «нирваны знания». Противоположный логическому классицизму тип мышления – эмоциональный романтизм. Как первый жаждет спокойствия окончательных ответов, так второй жаждет вечной неугомонности беспокойного вопрошания. Парменид там, Гераклит здесь. Я исследовал эти два темперамента в философии в своей книге «Sinn des Daseins» («Смысл существования», Тюбинген, 1904) и решительно высказался за необходимость психологии формирования философских систем. Там я отличал тип интеллектуального мыслителя от эмоционального, когнитивного мыслителя от исповедального. Только потом из «Прагматизма» Джемса я узнал, что моя эволюционистская критика на самом деле является прагматизмом. С Вильгельмом Иерусалемом в Вене дело обстояло иначе. В «Deutsche Literaturzeitung» от 25 января 1908 года, стр. 205, Джейрузалем пишет: «Я сам узнал из рецензии Шиллера на одну из моих книг, что я философствую в соответствии с прагматическим методом». Однако я делаю значительный шаг за пределы прагматизма, пытаясь вывести логические категории генетическим путем в эссе «Der Neo-Idealismus unserer Tage» (впервые опубликовано в нашем «Archiv» в 1903 году).
Генетическая теория истины прагматизма отрицает критерий истины настолько мало, что не знает иного стремления, кроме как придать истине биологическое основание. На основе фактов и в тесном контакте с доминирующей дисциплиной знания наших дней, биологией, она хочет показать, «почему люди ориентируются на истину и должны всегда ориентироваться на нее» (Прагматизм, стр. 43). Однако, если бы прагматизм был прав, якобы «вечные» истины не диктовались бы абсолютистски сверху, а демократически выстраивались бы снизу с помощью опыта и демонстрировались бы посредством индуктивных обобщений («empeires», как называет их Вундт). Каждый новый опыт истинен только тогда и только в той мере, в какой он помогает нам поставить себя в соответствующие отношения с другими частями нашего опыта. Законы – это не что иное, как общий опыт, который мы облекли в форму концептуальных сокращений. Universalia post rem. Такие концептуальные сокращения являются прекрасным «меморандумом для памяти», подобно тому как, согласно Миллю, каждая дедукция является лишь обратной индукцией, но как таковая, по крайней мере для контроля, является ценным логическим пособием. Конечно, понятия – это только символы для сокращенного опыта и как таковые пустые слова (flatus vocis [дым и зеркала – wp], говорит средневековый номиналист); но не совсем нерелевантные, потому что не бесполезные, добавляет прагматист. Оправдание каждой теории заключается в ее применимости на практике. Любое средство мышления «истинно» в той мере, в какой оно целенаправленно связывает части нашего опыта и выражает их наиболее кратким и экономным способом (говоря словами Авенариуса и Маха). Понятия «истинный» и «хороший» становятся одним и тем же. Калокагатия греков превращается в алетогатию, как это было уже у Сократа. «Истинное означает все, что оказывается хорошим в области интеллектуального убеждения по определенным врожденным причинам» (Прагматизм, стр. 48). Хорошим же является все то, что благоприятно влияет на образ жизни человека, способствует его настроению, возвышает образ жизни, короче говоря, увеличивает высоту и глубину жизни человеческого типа. Поэтому прагматизм не признает ни рационалистической, ни сенсуалистической догмы, а только догму «пригодности», «эффективности» для повышения отношения к жизни, короче говоря, только догму активности, силы действовать. «Если теологические идеи могут это делать, если понятие Бога, в частности, доказывает свою состоятельность в этом отношении, то как может прагматизм отрицать существование Бога?» (Прагматизм, стр. 51). Это позволяет нам проникнуть в суть философии религии Уильяма Джеймса.
Джеймс не испытывает ужаса перед «Абсолютом». У него есть обнадеживающее преимущество – он позволяет нам «моральный отпуск». И если бы такие кандидаты на звание высшего родового понятия, как «нечто», «субстанция», «бытие» или «мыслимое», представляющие собой завершение логической пирамиды, смогли доказать свою безусловную полезность для организации жизни, то, возможно, не логик и эпистемолог, но уж точно психолог религии Джеймс заключил бы свой договор с «Абсолютом», с «единством мира», хотя внутренне он плюралист. Ибо генетическая теория истины не закрыта для осознания того, что склонность и стремление к единству, «трансцендентальному единству апперцепции», как называет его Кант, глубоко укоренены в человеческой природе. Вопрос лишь в том, укоренилось ли оно, как это представляется трем великим учителям единства – Пармениду, Спинозе и Гегелю. Прагматизм не отрицает «родового единства» объектов между собой. Поэтому мне непонятно, почему Джемс («The Philosophical Review», January 1908, vol. XVII, p. 17) сделал следующую уступку солипсизму в своем эссе «The pragmatist account of trutz and its misunderstanders»: «It must be confessed that pragmatism, worked in this humanstic way, is compatible with solipsism.» [Следует признать, что прагматизм, работающий в этом гуманистическом ключе, совместим с солипсизмом. – wp] Здесь я должен защищать Джемса против Джемса. Насколько точна его следующая характеристика прагматизма: «It joins friendly hands with the agnostic part of Kantism, with contemporary agnosticism, and with idealism generally» [Он пожимает руку агностической части кантианства, современному агностицизму, а также идеализму в целом. – wp], так же решительно прагматизм должен защищать себя от эпистемологического слияния или даже слияния с солипсизмом. Здесь по-прежнему применимы слова Шопенгауэра: солипсизм нельзя опровергнуть. Но лечение холодной водой может пойти ему на пользу. Сам Джемс говорит (Прагматизм, стр. 87): Самая важная связь, существующая между вещами, – это, говоря прагматическим языком, их родовое единство. Вещи объединены в роды, в каждом роду есть множество образцов, и то, что можно вывести из рода для одного образца, верно и для всех остальных образцов этого рода. Мы можем легко представить себе, что каждый факт в мире был бы единственным, то есть отличался бы от всех других фактов и был бы уникальным в своем роде. В таком мире, где нет ничего, кроме единичностей, наша логика была бы бесполезна, поскольку деятельность логики состоит в том, чтобы на основе единичного предсказывать то, что верно для вида. Если бы в мире не было двух одинаковых вещей, мы не смогли бы выводить будущий опыт из нашего прошлого». Таким образом, Джемс ставит солипсизм, особенно как прагматик, на место и преодолевает его научным путем. Солипсизм означает разрушение всей науки и ее инструмента, логики, в то время как прагматизм означает обратное: построение науки на основе биологически обоснованной логики.
Возможно, Джемс заложил бы этот биологический фундамент еще глубже и закрепил бы его прочнее, если бы был знаком с работой Ричарда Семона «Мнема» (второе издание 1908 года). Семон развил известную теорию Геринга об инстинктах как «опыте вида» в масштабную систему, которую я рекомендую вниманию прагматиков, а также недавно опубликованную работу Элиаса фон Кайона «Орлабиринт как орган математического синнестетика для пространства и времени» (Берлин, 1908). Экспериментальные исследования фон Циона направлены против всякого нативизма и априоризма кантовской теории пространства-времени. Призыв «назад к Лейбницу», который неоднократно звучал в «Sinn des Daseins» и в ряде других работ, фон Кайон находит более понятным и более приемлемым для естествоиспытателя, чем «назад к Канту». «Лейбниц, – пишет фон Кайон (стр. XV, Предисловие), – ближе к духу эпохи энтропии Клаузиуса, клеточной теории Шванна и бактериологии Пастера и Коха, чем Кант». Очень понятно. Сегодня мы мыслим более биологично. Это предполагает телеологический подход. А поскольку Лейбниц, как я показал в своей работе «Лейбниц и Спиноза» (Берлин, 1890), основывал свою теорию монад на открытиях микроорганизмов Шваммердама, Лиувенхока и Мальпиги, даже если он ее и не построил, то уж точно проверил, энергетизм и витализм Лейбница нам ближе, чем мыслитель более геометричный Спиноза и более критический Кант.
Прагматизм принадлежит, намеренно или ненамеренно, к той группе современной философии, которая вместе с ЛЕЙБНИЗОМ стремится вернуться к аристотелевскому понятию энтелехии. Натурфилософы вроде Оствальда, биологи вроде Рейнке, эпистемологи вроде Авенариуса и Маха – все они телеологичны, эволюционистски и энергетически ориентированы. То, что их разделяет, – это нюансы; то, что их объединяет, – это основной тон, основной философский настрой того гераклитизма, который достиг своего наивысшего триумфа в эволюционизме Герберта Спенсера. Все течет, все находится в процессе становления, в том числе и истина. Для рационализма, справедливо отмечает Джемс (Прагматизм, стр. 164), реальность является законченной и полной от вечности, тогда как для прагматизма она все еще находится в процессе становления, и ее формирование лишь частично ожидается из будущего. Это не говорит против старого опыта, который Джемс уважает в высшей степени. После Авенариуса наивный реализм, образ реальности эпистемологически среднего человека, снова вступил в свои права. То, что Авенариус сделал для спасения чести наивного реализма, генетическая теория истины Джеймса и Шиллера хочет сделать для «здравого смысла» в целом. Старая английская теория здравого смысла, тень communes notitiae Стоа, возрождается в прагматизме. Подобно тому, как пролегомены, ортос логос [правильный разум – wp] и конай энноя были когда-то критериями истины для Стои, против которых критическая письменность Плутарха вместе с армией *пирроновского скептицизма взяла оружие, так и Джемс заявляет: наши фундаментальные методы мышления являются открытиями наших древнейших предков и смогли пережить весь последующий опыт (стр. 107). Вот почему он, вместе с Махом, Оствальдом и Дюгемом (а почему не с Авенариусом?), призывает вернуться к здравому смыслу. Критерием генетической теории истины является, с одной стороны, плодовитость, с другой – ее проверяемость через новый опыт. Согласно Джемсу (p. 125f), истинные идеи – это те, которые мы приобретаем, которые мы можем утверждать, воплощать в жизнь и проверять. Ложные идеи – это те, для которых все это невозможно.
Истинное – это не что иное, как то, что ведет нас вперед по пути мысли. Мы живем вперед, говорит Джемс вместе с датским мыслителем, но понимаем назад. Сумма конденсированного родового опыта наших предков – Геринг называет это «инстинктом», Семон – «мнемой» – формирует и оформляет убеждения, которые определяют наши действия. Истина не существует, «она действительна, она утверждает себя» (стр. 143), и поэтому Джемс сводит свои генетические теории истины к следующим двум предложениям (стр. 144):
1. истина – это система пропозиций, имеющих безусловное право быть признанными в качестве действительных.
2. истина – это название для всех суждений, которые мы считаем необходимым делать в силу своего рода императивного долга.
Если мы добавим к этому, что Шиллер определяет: «Истинно» то, что «работает», а Девэй утверждает: истинно то, что приносит «удовлетворение», то мы установим основные положения генетической теории истины прагматизма. (Кстати, ДЭВЕЙ протестует против интерпретации «Истина – это то, что дает удовлетворение» (The Journal of Philosophy, февраль 1908, стр. 94). Существует ли конечная точка истины? Является ли понятие истины в прагматизме, рассматриваемое в обратном направлении, регрессом, рассматриваемое в прямом направлении, прогрессом в бесконечности, как понятие цели и идея развития у Аристотеля? Вовсе нет! Как для Спенсера однажды будет достигнуто абсолютное состояние равновесия Вселенной, а для Клавзия энтропия мира приблизится к максимуму, так и для Джемса существует абсолютная точка покоя в далеком будущем, в конце дней, в намеке на эпистемологическую эсхатологию [учение о надежде на совершенство – wp] и апокалипсис – логическую нирвану. «Абсолютная истина в том смысле, что никакой будущий опыт не может ее изменить, это идеальная точка, к которой однажды сойдутся все наши нынешние истины» (стр. 141). И таким образом прагматик Джемс в своей логике и эпистемологии ведет к мессианству и пророчеству в той же мере, что и в своей «воле к вере». Абсолют, который «трансценденталисты» проецируют назад, отбрасывают в далекое прошлое или даже увековечивают в платоновском царстве идей, Джемс из прагматических соображений, из телеологических побуждений хочет спроецировать вперед, в самое отдаленное будущее, как далеко идущий идеал «мелиористического» [мироулучшающего – wp] отношения к жизни и образу жизни.
Для прагматика влияние на образ жизни является критерием жизнеспособности истины. В борьбе за существование идей Джемс применяет формулу борьбы Дарвина и теорию отбора Спенсера. Философские истины также участвуют в борьбе не на жизнь, а на смерть. Если гипотеза оказывается энергичной, живой, стойкой, значит, она доказала свое право на существование с помощью этой селективной эффективности; если нет, то это мертвая «гипотеза», которую выбрасывают на свалку. Прагматизм добавляет к этому метафизический докторский вопрос о том, имеет ли мир реальность только в головах людей, то есть имманентно, или также вне их голов, то есть экстраментально. От решения этой проблемы не зависит образ жизни человека – в оркус [царство мертвых – wp] с этой мертвой гипотезой! Конечно, Джемс может удержаться даже от того, чтобы рискнуть онтологической гипотезой, ноэтическим [эпистемологическим – wp] плюрализмом, которому он придает большую вероятность (Прагматизм, стр. 102f), но он готов отправить и ее в мертвое царство, как только она окажется неэффективной.
Для Джеймса научная гипотеза, особенно философская, жива только тогда, когда она имеет эвристическую ценность, открывает перспективы, расширяет горизонты и, таким образом, обещает что-то в будущем. Истина – это телеологический процесс адаптации. Прошлое имеет ценность лишь постольку, поскольку оно содержит указатели на будущее. Вся логика имеет смысл только как целесообразная реакция на жизнь, так же как вся религия имеет свое глубочайшее основание в том, что мы реагируем на жизнь в целом нашими чувствами – в этом Джемс следует по пути Шлейермахера, как показал Воббермин. Поэтому интеллект – самое подходящее оружие, которое человек выковал для себя в борьбе с окружающей средой, потому что с помощью интеллекта и его органа – логики – человек способен наиболее адекватно реагировать на разрушительные воздействия внешнего мира и наиболее экономно выявлять благоприятные из них. В конце концов, логика – это продукт отбора – отбора наиболее удачного оружия, которое человек выковал для себя в борьбе за самосохранение и сохранение вида. Поэтому не существует вневременных или вечных истин, а есть только относительные, действенные, телеологически обоснованные истины для времени и для человека. Ибо познание – это, говоря словами Маха («Erkenntnis und Irrtum», 1907), приспособление мыслей к фактам, или просто приспособление мыслей друг к другу. А Авенариус дает следующее определение: Познание – это все, что способно вызвать жизненное различие. Гуманизм» Ф. К. С. Шиллера («Личный идеализм», Лондон, 1902, с. 60) говорит совсем другое: Мир по своей природе является hyle [субстанцией – wp], а значит, тем, что мы из него делаем. Бесполезно определять его тем, чем он был с самого начала, или тем, чем он является в отрыве от нас; он есть то, что мы из него делаем. Ибо мир пластичен. Шиллер прекрасно понимает, что это возвращает нас к «Протагору». В своей последней книге («Исследования по гуманизму», 1907) он объявляет теорему гомо-менсуры Протагора воплощением прагматической доктрины истины. В защиту Протагора, что, кстати, уже было сделано Эрнстом Лаасом в его работе Шиллера, чье глубокое содержание долгое время оставалось неоцененным, он сравнивает Протагора с Паулюсом.
С этого момента начинается критика. Нежелание объединять прагматизм с позитивизмом, релятивизмом, психологизмом и феноменализмом ему не помогает. Все серьезные критики (Лаланд, Лавджой, Кальдерони, Мактаггарт) выявили это согласие. Конечно, существуют тонкие демаркационные линии, отделяющие прагматизм от позитивизма, как это сделал Уильям Джеймс в январском номере американского журнала «The Philosophical Review» за 1908 год (стр. 2). Но то, что отделяет прагматизм от позитивизма и психологизма, – это окраска, то, что их объединяет, – это тенденция.
Прагматизм суммирует все те тенденции нашего лихорадочно возбужденного философского времени, которые под именами натурфилософии, энергетизма, психологизма, позитивизма, феноменализма, фризовского эмпиризма и релятивизма ведут общую борьбу против вещи-в-себе, против всякой метафизики: Натурфилософия, энергетика, психологизм, позитивизм, феноменализм, фризский эмпиризм, релятивизм, которые ведут общую борьбу против вещи-в-себе, против всей метафизики, против трансценденции, идеализма, короче говоря, против того платонизирующего кантианства, которое наиболее последовательно представлено и энергично отстаивается Марбургской школой (Коген, Наторп). И снова, перефразируя Джемса, «нежные» сталкиваются с «грубозернистыми», «однажды рожденные» с «дважды рожденными», как радикально обозначил эти два типа Нейман, с элементарной силой. Как рационалисты и иррационалисты, классики и романтики, рациональные мыслители и эмоциональные мыслители, логики и мистики стоят вооруженные до зубов против друг друга в каждом жанре мыслителя, так и горячо эмоциональная философия поднимается под древним, но свежепозолоченным щитом «прагматизма», которая когда-то была дома в Англии, затем в Германии (Гаман, Якоби) и которая теперь представлена во Франции Риботом, а в Австрии Генрихом Гомперцем, снова поднимает голову против старой философии разума рационалистов, логиков и идеалистов. Вечный [вечный – wp] процесс чувства против понимания, который в конечном счете является лишь неизбежным отражением ментального дублирования чувства (или воли) и понимания, с которым все люди вынуждены бороться внутри себя, снова должен сразиться на форуме XX века.
Прагматизм не прощает себе ничего, когда открыто признает, что он не является ни новым именем, ни новым методом мышления, но по существу и прежде всего дальнейшим развитием той вековой антиметафизической и антирационалистической тенденции в рамках нашего биологически заинтересованного века, которая началась с Протагора и достигла своей кульминации у Юма. И поскольку мы живем сейчас в эпоху попыток диалектической гальванизации – неокантианства, неофихтеанства, неошеллингианства, неогегельянства – я бы счел термин «новогумизм» более подходящим, чем древнее название «прагматизм», в качестве обобщающего общую тенденцию всех этих философий. И поскольку сам Джемс в своем посвящении Миллю указывает, насколько его мышление близко к мышлению Милля, он не мог не понимать, что на самом деле это Юм и всегда Юм, который говорит от прагматизма, тем более что сам Милль – это только Юм, продуманный до конца и отлитый в параграфы индуктивной логики.
В течение многих лет я отстаивал тезис с некоторыми из моих студентов: Кант не опроверг HUME. В своей книге «Социальный оптимизм» (Jena 1905) я доказываю, что HUME – не скептик, а глава позитивизма, и что Кант не опроверг его ни в одном пункте. Процесс еще не закончен. Документы свернуты. Давайте приготовимся к новой битве (стр. 154).
Подобное заявление партии Юма против партии Канта теперь можно найти в «Прагматизме» Уильяма Джеймса. Мольба также в том менее приятном вторичном значении этого слова, которое не исключает, а скорее включает риторическую напыщенность и пропагандистское насилие. Как и положено эмоциональному философу – вспоминаются Гаманн или Якоби – преобладает темперамент, но приправленный такой счастливой дозой юмора, что прагматизм в изложении Джемса должен иметь искрящийся, бодрящий, зажигающий и вдохновляющий, т.е. пропагандистский эффект. Характер изложения – скорее позднекиническо-стоическая диатриба, светская проповедь в стиле Эпиктета, Марка Ореля, Эмерсона, Хилти, без страстного пафоса Карлайла; но именно в этом личном прикосновении к специфически джеймсовскому прагматизму и заключается его «сила действовать».
Джеймс настолько хорошо знаком с историей человеческой мысли, что от его внимания, конечно, не ускользнуло, что прагматическая формула «power to work», как и ее более ранняя разновидность «will to believe», является лишь тенью формулы, которую Гегель называл «will to think», Шопенгауэр – «will to live», а Ницше – «will to power». В частности, «воля к власти» была в крови английской мысли со времен Фрэнсиса Бэкона. Его «tantum enim possumus quantum scimus» [Мы можем сделать столько, сколько знаем – wp] можно с уверенностью поставить на вершину «прагматизма» Джемса. Воля к власти, как она проявляется в теоретиках закона силы у софистов (особенно у Калликла в платоновском «„Горгии“», который, вероятно, послужил образцом для «?bermensch» Ницше), у эпикурейцев, у Гоббса и Спинозы, – это также последнее слово в примате практического разума, провозглашенного генетической теорией истины. И в этом Джемс остается верен старой английской традиции, связывая примат практического разума с номинализмом и утилитаризмом. Задолго до Шопенгауэра, Спенсера и Джемса номиналист Дунс Скот дословно отстаивал этот тезис: воля – господин и правитель, интеллект – слуга (Voluntas imperans intellectui est causa superior respectu actus ejus, Opera ed. Ven. 1597 fol. 165 a). А Уильям Оккама слепо следует учению о примате воли. Таким образом, три основные тенденции английской мысли с XIII века сходятся в прагматизме Пирса, Дьюи, Джемса и Шиллера: эпистемологический номинализм ведет через Локка, Беркли и Хьюма по прямой линии к Миллю и Джемсу. То, что там называлось номинализмом, для Локка означало эмпиризм, культ фактов, фетишизм «материи факта». То, что определяло примат воли над интеллектом у Дунса, содержится в качестве мотива мысли в «Левиафане» Хоббса как монархический центр воли, как сакральная государственная власть, как основной инстинкт самосохранения, который мы вновь встречаем как suum esse conservare у Спинозы, следующего за Гоббсом и Стоа. Этот примат воли, требуемый «Критикой практического разума» Канта, резко подчеркнутый «бытие вытекает из делания» Фихте, наконец, и в особенности поставленный в центр философских дискуссий субстанциализацией воли у Шёпенгауэра, получает следующий поворот у Джемса. Вместо слепого Хёдура, тупой воли к миру в творчестве Шопенгауэра, Джемс отдает первенство чувству, тому «моральному чувству», систему которого Адам Смит разработал вместе со своим закадычным другом Юмом, но в связи с английской философией чувства XVIII века. У Джемса, однако, это чувство получает биологическое обоснование, которого в принципе уже требовал Юм, не имея, конечно, возможности его реализовать, поскольку состояние биологии при жизни Юма не позволяло этого сделать. Только со времен Спенсера и новой теории наследственности, будь то в версии Спенсера или Вейсманна, мы смогли обеспечить биологическое основание в том виде, в котором его когда-то предполагал Хьюм, и прагматизм Джемса осуществляет этот акт мышления. Наконец, с XIII века английской мысли была присуща третья тенденция, которая в полной мере и в чистом виде достигает кульминации только в прагматизме: утилитаризм. Роджер Бэкон заложил здесь основы, как это делали софисты и гедонисты в античности. Разница лишь в том, что древние утилитаристы провозглашали мораль последствий, тогда как сегодня прагматики требуют логики последствий. Истина для прагматиков (особенно для Шиллера) – это слово, такое же, как добро или красота. Науки культивируются, а истины провозглашаются за их полезность – такова квинтэссенция прагматизма. Этой утилитарной «доктрине науки» и ее обоснованию мы обязаны Роджеру Бэкону из современников. Как и Джемс, Роджер Бэкон, как и его более поздний тезка Френсис Бэкон, требовал прежде всего «плодов». В Opus majus (I, 55) Бэкон говорит: «Аристотель и другие посадили дерево науки, но оно еще не проросло всеми своими ветвями и не принесло всех своих плодов». Этих «плодов» он ожидает от «эксперимента». Роджер Бэкон буквально заявляет (Сочинения II, с. 167): Есть два способа познания: аргумент и эксперимент. Первый делает выводы из разума и заставляет нас согласиться с выводами, чтобы разум был удовлетворен в восприятии истины. Это происходит только тогда, когда истина подтверждается опытом. Таким образом, естественная наука должна опираться на опыт; без него ничего нельзя знать с уверенностью. Эти слова с таким же успехом можно было бы найти в «прагматизме» радикального эмпирика Джеймса, как и у Роджера Бэкона.
Разве все эти исторические свидетельства призваны принизить прагматизм, свести к минимуму, а то и вовсе опровергнуть его претензии на оригинальность или обвинить в неуклюжем эклектизме? Является ли прагматизм, как считают его противники, просто свалкой старых эмпирических обломков и сенсуалистических обломков? Или даже конгломерат изношенного тряпья утилитарных теорий и потертых, вышедших из употребления монет из диалектической коллекции курьезов? Ни в коем случае. Когда я раскрываю предшественников, родственные души и современных современников прагматизма и обнажаю корни этого мировоззрения в прошлом и настоящем, я делаю это не для того, чтобы принизить или даже пренебречь прагматизмом, а лишь для того, чтобы объяснить его. Он является последним отростком великой тенденции человеческой мысли, которая началась с Протагора и нашла стократное представление и защиту в номиналистах всех степеней и оттенков, всех зон и времен, начиная с киников, киренаиков и стоиков, эпикурейцев и скептиков. Я вижу так же мало эклектики в прагматизме, как я способен увидеть эклектику у Лейбница, следуя примеру Дюринга, например. Я не хочу ни опровергать, ни защищать прагматизм – я хочу лишь объяснить его, выведя из его исторических условий и предпосылок. Мне кажется, что это доказательство должно не только не повредить прагматизму, но скорее способствовать его признанию в качестве обоснованного философского течения наших дней. Насколько велика и глубока должна быть общая тенденция в человеческой природе, представленная прагматизмом в рамках нашего современного астрофизического мировоззрения и на основе ставшего доминирующим биологического метода, если эта «новейшая» школа мысли на протяжении 2000 лет снова и снова находит горячих сторонников и восторженную поддержку, даже если на самом деле она стремится лишь выполнить то, чего уже требовал Протагор.
Прагматизм, безусловно, эпистемологически является номинализмом, психологически – волюнтаризмом, логически – энергетизмом (сила к действию), метафизически – агностицизмом, этически – мелиоризмом на основе утилитаризма Бентама-Милля. Но эти элементы мысли не механически, не обработаны, не склеены, а органически соединены, внутренне связаны, даже сплавлены. Ведь всякое мировоззрение в конечном счете есть лишь синтез существующих элементов мысли. И если такой синтез полностью обобщает великие тенденции, как, например, прагматизм в его интеграции эмпиризма, волюнтаризма и утилитаризма, и если ему удается выразить свое мировоззрение в такой захватывающей, чтобы не сказать соблазнительной форме, как это делает Джемс в своем «Прагматизме», то, конечно, нельзя отказать такому мировоззрению в научном праве на существование.
Прагматизм нужно критиковать изнутри, исходя из его собственных предпосылок, а не с позиций идеализма, как это пытается делать Мёнстерберг. Это два темперамента, как правильно признал Джемс. Но темпераменты нельзя опровергнуть. «Как я это вижу» – это заголовок перед каждым храмом, не только перед пантеоном искусства, но и перед строгим собором науки. Никто не может оспорить его способ видения. Вопрос лишь в том, правильно ли он видит со своей позиции. И вот здесь-то и возникает наша критика прагматизма.
«voir pour prеvoir» [видеть, чтобы предвидеть – wp] Комте стоит на пороге прагматизма. Любое знание имеет телеологическую подоплеку. Оно должно научить нас формировать нашу будущую жизнь. Грубо говоря: ipsissimae res sunt veritas et utilitas [истина и польза – одни и те же вещи – wp] – так говорит архипрагматик Фрэнсис Бэкон. Фейербаховское «довольствуйся данным миром» прагматизм трактует так: в той мере, в какой данный мир в настоящем и прошлом содержит указатели на будущее, «инструкции для блаженной жизни», как сказал бы Фихте.
Два критерия истины у Платона (также у Аристотеля) и Канта: необходимость и универсальность – заменяются здесь гедонистически-утилитарными критериями истины, индивидуальной полезности и общей целесообразности. Истинное и хорошее совпадают – этого требует биологически-телеологический фундамент логики, как это провозглашает прагматизм, следуя более ранним школам мысли, но с очень сильным личностным оттенком.
Существует, однако, ряд возражений против этой биологической логики, даже исходя из прагматистской отправной точки, и я подчеркиваю, что не буду повторять аргументы, которые Гуссерль в своих фундаментальных «Логических исследованиях» и Мёнстерберг в своей «Философии ценностей» (Лейпциг, 1908) объединили в впечатляющее единство против всякого психологизма. Я также не буду использовать в своих целях богатую полемическую литературу англичан, французов и итальянцев против прагматизма. Для меня это скорее вопрос трудностей мышления, которые я не могу подавить, несмотря на мое сочувственное отношение к основным требованиям прагматизма. Если г-н Джемс и г-н Шиллер возьмут на себя труд ознакомиться с моими «Wende des Jahrhunderts» (T?bingen 1899), «Der Sinn des Daseins» (1904) и «Der soziale Optimismus» (Jena 1905), они обнаружат в том, что я называю эволюционистским критицизмом и энергичным оптимизмом, много сходства с их собственной точкой зрения, иногда даже буквальное соответствие. В случае, если Джемс и Шиллер, как и Вильгельм Иерусалем, предъявят мне претензии по поводу прагматизма, я должен резюмировать свои оговорки относительно метода и результата. Как бы я ни симпатизировал телеологическому подходу, я должен возразить против того, чтобы видеть в телеологии больше, чем она способна предложить. В этом Кант сказал за меня последнее слово. Телеология – это эвристический и регулятивный, но никогда не конституирующий принцип, как причинность. Поэтому я отвергаю трансцендентальную телеологию, против которой направляют свои смертоносные стрелы Декарт, Гоббс и Спиноза, так же решительно, как я отстаиваю имманентную телеологию вместе с Лейбницем (правильно понимать: даже вместе с Кантом). В своем трактате «Причинность, телеология и свобода» я прояснил свою позицию по этим проблемам и получил почву для доктрины свободы, которую должен приветствовать индетерминист Джеймс. В своей работе «Социальный вопрос в свете философии» (Штутгарт, 1903) я уточнил, что я понимаю под имманентной телеологией.
Под «имманентной телеологией» я понимаю необходимую цель человеческих волевых сообществ. Любая социальная организация, конденсирующаяся в институтах обычая, права, религии и т. д., предстает как результат определенной цели человеческих сообществ воли. Всякая социальная причинность приобретает, таким образом, телеологический изгиб, ибо рассматриваемая здесь форма причинности – это не причина и следствие, не причина и следствие, а телеологическая причинная связь цели и средства. Все события необходимы для природы, вся логика необходима для мысли, но все действия необходимы для цели. Ибо причинность, как конститутивный принцип, распространяется безусловно, то есть и на неорганическую природу, в той мере, в какой она способна вызывать акты воли, то есть движения, приспособленные к целям. Причинность относится ко всем событиям, имманентная телеология – только к каждому действию. Природа – это система законов, общество – система целей. Но и у этих человеческих целей есть свои законы; они называются законами цели. Все социальные институты в конечном счете основаны на таких законах цели. Физическая причинность действует в соответствии с причиной и следствием, психологическая – в соответствии со стимулом и ощущением, логическая – в соответствии с причиной и следствием, социологическая – в соответствии с целью и средством.
Единственное новое в прагматизме с его генетической теорией истины – это то, что он оказывается логическим эволюционизмом. Истина помещается в поток практического становления. Как последователей гераклитовского Кратила, учителя Платона, которому он посвятил свой одноименный диалог, однажды насмешливо назвали «текучими», так и прагматики знают только становящуюся истину, которая должна стремиться к абсолютной истине или ее идеальной точке в постепенном приближении. Это старая концепция Conatus, «oregesthai» Аристотеля, hegemonikon Стоа, «импульс» Галилея, «старание» англичан, «импульс» Спинозы, «тенденция» у Лейбница, «целеустремленность» у Карла Эрнста фон Баера, «врожденный интерес» у Ратценхофера, «доминанты» у Рейнке, «понятие направления» у Гольдшейда; но перенесенные из физики в логику Джемсом. Как заявляют все проецирующие вперед мистики: Бог не есть, но он становится; он реализует себя в нас через нас, или для Фихте в его первый период Бог означает не бытие, но постепенную реализацию и осуществление, ordo ordinans, так и абсолютная истина для Джеймса и Шиллера была бы не бытием, но долженствованием, логика, следовательно, не выводом, но началом – инструментальным средством для постепенной реализации окончательной истины. Таким образом, наша современная формальная логика и, в ее центре, категории были бы лишь относительно удовлетворительными средствами, временными помощниками мысли, в то время как сама истина, окончательная истина, оставалась бы идеалом, к которому всегда нужно стремиться, но который никогда не будет реализован. Как, согласно иезуитской максиме, цель должна этически освящать средства, так и в прагматизме цель, абсолютная истина, освящает средства: наши нынешние средства мышления или категории с их лишь относительным истинным содержанием.
Против релятивизации всех современных знаний, с одной стороны, и абсолютизации всех знаний в далеком идеале – с другой, необходимо выдвинуть следующие возражения изнутри. Если критерием современного знания является его полезность и эффективность, его «способность работать», то по какому праву Джемс отвергает скептицизм? («Философское обозрение», январь 1908 г., стр. 9). Скептицизм оказался одним из самых мощных ферментов против закостеневших суеверий и закоренелых предрассудков, позволяющих нам лучше понять реальную структуру и работу природы. Любой догматизм оказывает усыпляющее действие, заглушает научное сознание и практически препятствует продвижению к абсолютной истине, которая, как предполагается, является нашим далеким идеалом. Релятивист Джемс не только не имеет логического права гордо отвергать союз скептицизма, но, напротив, обязан вступить с ним в братство по оружию в той мере, в какой он выбрасывает на свалку старое, отжившее, несостоятельное. Там, где скептицизм негативен, прагматизм должен принять его в свои ряды. Только там, где он оказывает депрессивное воздействие, как в его учении об эпохе, в его логическом аскетизме, где он становится, так сказать, кастратом знания, – там, но только там, прагматизм должен отказаться от своего союза.
Однако в позитивном расширении генетического понятия истины прагматизм снова наталкивается на стену, которую он не может отменить или отрицать, но должен сознательно преодолеть или перебросить через нее мост. Каким образом ощущения, которые даны нам лишь как изолированные атомы впечатлений, то есть случайно, бессвязно, в хаотическом беспорядке, вдруг образуют в нашем сознании ряды, серии, упорядочивающие функции? Как психологический хаос ощущений превращается в логический космос в сознании? Как факты становятся причинами, отдельные фрагментарные переживания – истиной, которая тоже лишь относительна, но тем не менее прекрасно объясняет связи во внешнем мире? Прежде всего, я воздержусь от указания на то, что опасность генетической теории истины заключается в бездонном субъективизме, который отделен от солипсизма лишь тонкой перегородкой. Я уже показал, как Джемс может и должен избежать солипсизма. Он спасается от Сциллы «логизма» с его «вечными формами мысли» – эпистемологического правнука «qualitates occultae» схоластов, – укрываясь в телеологии как истинный психолог. Такова тенденция времени. Немецкий психолог Теодор Липпс пришел к «пантелизму» (см. его трактат по натурфилософии в сборнике «Philosophie im Beginn des 20. Jahrhunderts», второе издание 1907 г., Гейдельберг), как и, совершенно независимо от него, прекрасный мыслитель Вильям Штерн из Бреслау в своем щедром труде «Person und Sache» (Лейпциг 1906), который насчитывает несколько томов. Штерн приходит к выводу, что, с одной стороны, каждому личностному свойству должен соответствовать механический эквивалент, а с другой – «все механическое должно в то же время иметь телеологический смысл» (т. I, с. 348). Поэтому Штерн заменяет психофизический параллелизм Спинозы и Вундта «телеомеханикой», более ориентированной на Лейбница.
Старая «телефобия», укоренившаяся ненависть ко всем объяснениям цели, взращенная Декартом, Спинозой и материалистами, явно сходит на нет. С тех пор как Карл Эрнст фон Баер под аплодисменты Лотце и новейших натурфилософов вновь помог старой аристотелевской «целеустремленности» (oresis) одержать победу, она предлагает чем дольше, тем более победоносную защиту против механической причинности материалистов. Вместе с Лейбницем и Эдуардом фон Хартманном мы привыкли видеть во всем механизме лишь частный случай всеохватывающей мировой целеустремленности, поскольку, очевидно, не может быть ничего более целеустремленного, чем механизм.
Но оправдывает ли прагматический метод, культ фактов, мышление без гипотез, генетическая теория истины такое использование телеологического принципа? Давид Койген в своем «Jahresbericht ?ber die Literatur zur Metaphysik» (1908, с. 131) из нашего «Архива» прекрасно говорит: «Телеология всегда идет от целого к индивидууму, следовательно, всегда идет дедуктивно. Ибо целое и присущие ему цели существования уже дедуктивны по своей природе. В каждом телеологическом подходе, в отличие от каузального, целое является более ранним, а части – более поздними». Этот контраст с блестящей ясностью разработал Тренделенбург в своих «Логических исследованиях, следующих за аристотелевской приставкой телеологического подхода». Понятие энтелехии у Аристотеля и монады у Лейбница – напомним, что Лейбниц, прежде чем перенять термин «монада» у младшего ван Гельмонта, называл свое понятие субстанции «энтелехией» – исходит из того, что причины целей предшествуют причинам следствий, если не во времени, то, по крайней мере, по рангу и достоинству. Системы Фихте, Шеллинга и раннего романтизма (Фридрих Шлегель) имеют тот же телеологический характер. Эмпирическая телеология Пауля Николауса Коссманна и имманентная телеология наших современных натурфилософов (Оствальд, Рейнке, Дриш), по общему признанию, основаны на аристотелевской энтелехии, что безоговорочно признает Дриш. Но определение Махом «Я» как «единицы цели» и учение Джемса о понятиях или «родах» как «телеологических инструментах» также исходят из общего базового убеждения, что вся духовная жизнь телеологична. Согласно Мах, телеологическое единство эго основано на «неанализируемом постоянстве». Согласно этому, эго – это практическое единство для временного, временного внимания. Точно так же понятия сущности – бытие, действие, материя, дух – являются сокращенными символами для облегчения оптимизации в «среде». Вся наука, таким образом, сводится к практике, так же как всякая дедукция, согласно Миллю, является лишь сокращением, обратной индукцией, меморандумом для памяти. Перед нами протон псевдо [первая ошибка, первая ложь – wp] прагматизма, а также позитивизма Юма и всех связанных с ним тенденций. Не считая того, что биологический метод, который Джемс и его последователи хотят сделать плодотворным для логики, скорее всего, потерпит неудачу, поскольку биология и сегодня находится в состоянии брожения становления, предварительной неопределенности, то есть еще не подходит для закладки основ самой определенной из всех наук, формальной логики, прагматизм совершает тот же порочный круг, из которого не смог выбраться и Юм. Юм возводит субстанцию и причинность к привычкам мышления и законам ассоциации. Но как законы ассоциаций оказались в человеческом мозгу? Почему у всех людей и животных одни и те же законы ассоциации по смежности или сходству содержания? Юм выводит истинность законов ассоциаций с помощью законов ассоциаций, которые уже действуют в нем самом. Он, конечно, ответит вместе с Кантом и Гегелем: нельзя научиться плавать, не войдя в воду. Круг неизбежен. Хорошо, но тогда следует также открыто признать, что законы ассоциации представляют собой психогенетическое априори, подобно тому как кантовские категории, постоянство эго, трансцендентальное единство апперцепции образуют логическое априори. Юм так же мало может обойтись без априори, как и Джеймс, который является ярым противником психологии ассоциаций, что Вундт упустил из виду в своем «Grundri? der Psychologie», поскольку он ошибочно причислил Джемса к сторонникам психологии ассоциаций. Однако Джемс все же попадает в круг, раскрытый здесь, с принципом ассоциации или без него. Ибо независимо от того, берется ли вместе с Авенариусом и Махом принцип экономии, мышления в соответствии с «наименьшей мерой силы», parsimonium naturae [естественная экономия], как основа всех форм мышления, как стандарт объяснения, или, вместе с Джемсом, принцип отбора, принцип полезности, «способность работать» как критерий всех ценностей реальности и истины: этот принцип является априорным, из которого дедуктивно выводятся отдельные явления. Альтернатива такова: без высшего принципа объяснения, независимо от того, называется ли он каузальностью или телеологией, у нас есть только бессвязные атомы впечатлений, но нет обобщающего обзора мирового контекста, т.е. науки. Но если «видеть для того, чтобы говорить» Комте правомерно, то у нас должно быть какое-то постоянство, будь то «неанализируемое постоянство» эго у Маха, принцип экономии у Авенариуса, законы ассоциации у Юма, прагматическая телеология понятий у Джемса или трансцендентальное единство апперцепции у Канта и «сознания вообще» у посткантианцев. Если бы будущее не было похоже на прошлое, оно не поддавалось бы никаким предварительным расчетам, а значит, и научному пониманию. Ни одна удовлетворительная картина мира не может быть построена из одних лишь переменных. Некое постоянство – то есть видимое внутри: Я или проецируемое вовне: бытие или мир – мы обязательно должны потребовать, установить или взять за основу, чтобы иметь точку опоры в появлении полета, иначе мы неизбежно становимся жертвой солипсизма, который, в свою очередь, означает не что иное, как эпистемологический фетишизм.