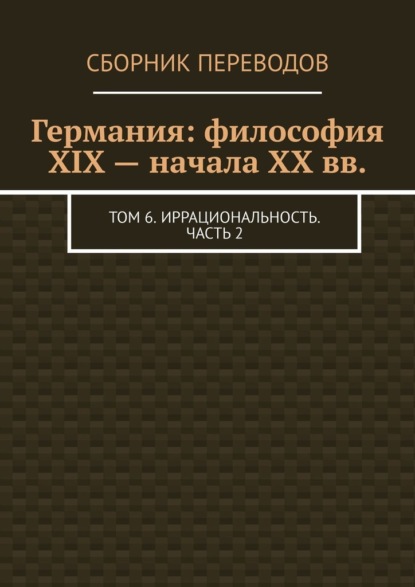По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 6. Иррациональность. Часть 2
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И здесь мы уже чуть более полувека знаем лаконичный ответ: живое существо – это комплекс, в котором свободная энергия расходуется на цели сохранения (включая размножение). Поэтому получение свободной энергии – это единственная необходимость жизни. Слова Шиллера о том, что мировой организм поддерживает себя «через голод и через любовь», – поэтически гениальное предвосхищение этой общей энергетической теории жизни. Мы можем определить «голод» в общем смысле как стремление к приобретению необходимой свободной энергии, но мы должны добавить, что «организация» также должна быть подчеркнута как существенная предпосылка, а именно способность преобразовывать свободную энергию для решения конкретных индивидуальных задач живого существа. Если разрушение или паралич основных частей живого существа, которые прямо или косвенно служат целям преобразования, препятствуют надлежащему преобразованию, то оно также должно погибнуть в море свободной энергии. Так обстоит дело, например, с сильно постаревшим индивидуальным организмом, который потерял способность к ассимиляции и должен умереть от голода между приемами пищи.
Отсюда мы можем проследить корни понятия цели вплоть до неорганического. Оно оказывается необходимым следствием фундаментального свойства свободной энергии, которое уже проявляется повсеместно в неорганике, но не приводит там к понятию цели, поскольку мы не склонны улавливать детерминированные тенденции развития и сохранения, которые также присутствуют там с этой точки зрения.
Это фундаментальное понятие – диссипация свободной энергии. Со времен фундаментальных открытий Сади Карно, Роберта Майера, Джеймса Жоуля, Германна фон Хельмгольца и Уильяма Томсона нам известен общий факт, что количество свободной энергии в известном мире постоянно уменьшается. Поскольку свободная энергия – это та часть общей энергии, которая определяет различные процессы во Вселенной, ее можно в целом описать как условие событий. Таким образом, ситуация такова, что в мире, насколько нам известно, спектр возможных событий постоянно уменьшается.
Именно это придает нашему миру характерную однобокость, которая определяет всю нашу судьбу. Во времени нет произвольного движения вперед и назад, как в пространстве, но время неумолимо и непреложно прогрессирует в смысле все большей диссипации свободной энергии, и нет ни на небе, ни на земле средств, способных отменить этот процесс или аннулировать его последствия.
Классическая механика не учитывала этот базовый факт, и, согласно ее уравнениям, каждое событие может происходить как в прямом, так и в обратном направлении. В конечном счете, именно по этой причине исследователи, которые мыслят и видят глубже, неоднократно отвергали чисто механическое объяснение мира. Даже если эта причина в большинстве случаев действует неосознанно, она не становится менее решающей и всегда будет оставаться таковой, чем больше человек осознает недостатки механики в этом отношении. Даже попытки связанного с почтенным именем Болтцмана механического понимания факта диссипации привели лишь к более ясному пониманию причин необратимости природных явлений, но не к их преодолению. Вот первые источники понятия стоимости, в которые мы можем проникнуть согласно современному состоянию наших знаний. Чтобы понять это, достаточно нескольких очень простых соображений.
Если мы считаем, что можем обратить вспять все происходящее и тем самым отменить его, то нам не нужно ни на минуту беспокоиться о том, хорошо или плохо мы поступаем, целесообразно или нецелесообразно. Ведь если какое-то действие приведет нас к нежелательной ситуации, нам нужно будет лишь обратить процесс вспять, чтобы восстановить прежнее состояние и тем самым устранить последствия своей ошибки. Другими словами, в наших действиях не будет никакого вреда. В действительности же мы часто поступаем так, что пытаемся исправить свои ошибки, но знаем, что никогда не сможем восстановить прежнее состояние, а всегда должны платить за ошибку какими-то потерями, которые никогда не сможем полностью восполнить. По крайней мере, мы потратили на это некий период нашего существования, который безвозвратно потерян.
Это отнюдь не уловка, чтобы представить себе эти обстоятельства и сделать их понятными для всех. Ведь из этих соображений совершенно ясно следует вывод, что закон расточения является наиболее общим источником всех ценностей и что поэтому все, что так или иначе наделено предикатом ценности, должно быть в состоянии постичь в своей глубочайшей сущности через применение закона расточения. Разумеется, этот закон устанавливает основу и тем самым общую форму ценностей; то неисчерпаемое разнообразие, которое это понятие впоследствии находит в своих многообразных человеческих приложениях, обусловлено другими факторами, лежащими в природе жизненных явлений всех видов. Но эти новые факторы могут лишь формально дополнять основной фактор, но никогда не могут размыть его сущность.
Эту сущность можно охарактеризовать следующим образом. Рассеивание свободной энергии само по себе неизбежно и необратимо. Единственная свобода, которой мы обладаем перед лицом этого факта, заключается в том, что мы можем в значительной степени влиять на ход диссипации во времени. Если кусок фосфора окисляется на воздухе за несколько часов и плавится в кислую жидкость, то если я переплавлю его в стакан, он сохранит свои свойства в течение столетий, возможно, тысячелетий. Однако в принципе придется признать, что даже стеклянная стенка не может быть абсолютно непроницаемой для воздуха и что, возможно, через миллионы лет фосфор постигнет та же участь, которой он вскоре подвергнется при беспрепятственном доступе воздуха. Но если мы не можем абсолютно исключить доступ воздуха, мы, конечно, можем поставить на его пути препятствия чрезвычайной степени и тем самым довести временной ход процесса до непревзойденного масштаба.
Это влияние на временной ход диссипации свободной энергии и направление ее преобразований на органические цели является сегодня великой проблемой всей жизнедеятельности. Формирует ли растение органы своих зеленых листьев, через которые оно преобразует солнечную энергию для своих целей, или мыслитель постигает глубочайшие связи событий, чтобы помочь и предупредить своих собратьев, – всегда речь идет о том, чтобы направить этот неудержимый поток энергии в русло, благодаря которому живое существо обеспечит свое сохранение и развитие. В другом месте[8 - Энергетическая основа культурологии, Лейпциг, 1909] я показал, как подобные соображения, в частности, могут пролить новый свет на проблему права; здесь же гораздо более общее понятие ценности предстает как наиболее общее биологическое выражение того же основного факта. Эффект общей диссипации, затрагивающий как неорганику, так и органику, усиливается специфическим явлением жизни, а именно старением. Пока в расчет принимаются только законы, известные в неорганике, непонятно, почему любой организм не может жить вечно, если в его распоряжении достаточно пищи или вообще достаточно свободной энергии. Как мы знаем, опыт учит нас, что такое условие не выполняется и что в живых существах все же действует фактор, который уничтожает особь через определенное время, в зависимости от вида, даже если не удается доказать никаких других факторов, сокращающих жизнь. По выражению другого поэта, мы все должны умереть от самой жизни. Каждому существу дается конечный период времени, по истечении которого оно должно отказаться от своего индивидуального существования.
Уже упоминалось, что на сегодняшний день не существует достаточной теории смерти. Если бы она существовала, то, несомненно, указала бы нам наиболее эффективный способ продления жизни. Однако широкая распространенность этого явления заставляет предположить, что мы имеем дело с чем-то, причинно связанным с фундаментальной конституцией земного живого существа, так что, хотя продление жизни и может быть задумано с помощью науки, вероятным или возможным представляется лишь временное ограничение, а неограниченное исключается.
Как бы то ни было, эта общебиологическая временная обусловленность определяет и абсолютную ценность времени для индивида, которая добавляется к ценности времени, уже основанной на факте всеобщего рассеивания и по своей природе приобретающей большее значение для больших временных отрезков существования видов. Она относится к тому же типу, что и диссипация энергии, поскольку также приводит к ярко выраженному единству времени; обращение индивидуального ряда развития живого существа кажется нам еще более невозможным, чем обращение любого явления диссипации, и мы считаем гораздо более немыслимым, чтобы старик мог регрессировать к молодости, чем чтобы вода захотела течь в гору. Для происхождения понятия ценности, таким образом, оба научных факта имеют последовательное значение, причем второй имеет еще более сильное влияние из-за нашего более близкого знакомства с ним.
Таким образом, общая цель всех живых существ, по-видимому, состоит в том, чтобы по возможности остановить рассеивание энергии и, во всяком случае, направить ее в интересах самой жизни. Суверенным средством здесь является порядок.
Порядок и гармония означают согласованное направление в ходе вещей или в неостановимом процессе рассеивания. Собирание и гармонизация – это совокупность всей технической, экономической и государственной деятельности. Если при «естественном» ходе событий, т. е. не зависящем от человеческой проницательности, отдельные процессы в среднем направлены друг против друга, так что (кроме общего рассеяния) ничего определенного не возникает, то, наоборот, всякое сознательное вмешательство в этот естественный ход событий, всякая организация событий, основана на том, чтобы заменить эти случайные направления единым и тем самым придать ему все большую силу. В чем же тогда причина того, что политическая организация римлян оказалась настолько превосходящей политическую организацию греков? Потому что этот народ смог организовать несоизмеримо большие массы людей в единую деятельность, в то время как политические способности греков достигли своего конца с полисом. И в наши дни: что означает самый заметный и самый распространенный фактор власти современной экономической жизни, который вот-вот вытеснит старые факторы политической власти государственных организаций, а именно трест? Опять же, не что иное, как объединение и согласование существующих, но до сих пор неорганизованных энергий.
Когда природа вечной длины нити
Равнодушно крутится на веретене,
Когда всех существ негармоничное множество
Звучит назойливо вперемешку;
Кто разделит струящуюся вечно одну и ту же линию
Живительно, так, чтобы ритмично зашевелилась?
Кто дает индивидуальному общее посвящение,
где оно бьется в дивных аккордах?
И ответ поэта: сила человека.
Наверное, нет необходимости продолжать эту тему, ведь мы находимся на привычной почве гуманитарных наук. Но тот факт, что порядок имеет такой успех, полностью объясняется тем особым свойством всех событий, что они необратимы, то есть необратимы из-за закона диссипации свободной энергии, и это порождает фундаментальные различия в последствиях, которые имеет каждый процесс. Эта необратимость является источником всех ценностей и целей, и с этой точки зрения организация процесса диссипации, или, говоря более кратко, организация свободной энергии, оказывается центральной проблемой всей науки о культуре, а значит, и центральной проблемой философии права.
LITERATUR – Wilhelm Ostwald, Zweck und Wert, Archiv f?r Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, Bd. IV, Berlin und Leipzig 1910/11
Людвиг Штейн (1859—1930)
Прагматизм
I. Прагматизм.
Habemus papam. И вот мы счастливо имеем еще одну философскую фразу, ставшую кличем новой школы мысли, философского движения, которое мощно звучит от Америки до старого континента и начинает рябить поверхность наших изумленных вод. «Возрождение философии», которое берлинский философ Карл Штумпф начертал в язвительных строках ректорской речи этого года (Лейпциг, 1908), пробуждает живое эхо по ту сторону океана, где философский дух уже несколько десятилетий как начал бурно развиваться и крепнуть. Мы привыкли воспринимать Новый Свет как философскую колонию Старого Света, особенно немецкой философии. Но как эта бывшая английская колония откололась от материнской страны, чтобы вырасти в империалистическую мировую империю, устремленную вдаль, так и американский дух, как и во всех областях знания, так и в философии, предпринимает серьезные усилия, чтобы не только властно потребовать своей интеллектуальной независимости и провозгласить зрелость, но даже претендовать на определенное лидерство. Наша самая благодарная бывшая рыночная территория собирается не только импортировать, но и в значительной степени экспортировать, причем не только в сельском хозяйстве и промышленности, в торговле и технологиях, но и в интеллектуальных ценностях. Новая нация устала довольствоваться пассивным торговым балансом. Она стремится к колонизации, убийственно конкурирует с английской родиной, ставит ногу на шею немецкой промышленности, с шипением бросает на ветер испанскую «Армаду» и бросает серьезный вызов самому молодому гиганту среди стран Дальнего Востока. Но национальный гигант также соревнуется в интеллектуальных товарах. Ученик хочет стать учителем. От потребления он перешел к производству. По инициативе германского императора Соединенные Штаты вступили в «обмен» с Германией, классической страной науки, особенно философии, на основе научного равенства. Америка посылает в Берлинский университет философов (PEABODY), лекции которых не только замечают, но и принимают с большой теплотой.
У американцев еще не было приземленной философии. Малебранш и Беркли, шотландцы и Локке были их первыми учителями. Первый американский мыслитель собственной формы, Джонатан Эдвартс, находился под таким же влиянием Малебранша, как и Бенджамин Фрэнклин под влиянием старых английских утилитаристов, особенно Бэкона. Американская мысль колеблется взад-вперед между утилитаризмом и спиритуализмом так же, как англичане колеблются между номинализмом и реализмом с XIII века. Великим номиналистам со времен Дунса Скотуса, Александера фон Халеса, Роджера Бэкона и Вильгельма фон Оккама противостояла, как сомкнутая фаланга, реалистическая доминиканская доктрина в Оксфорде. Но Фрэнсис Бэкон и Хоббс, Локк и Бэркли, Смит и Хьюм также имели своих спиритуалистов среди неоплатоников Кембриджской школы и в шотландской философии (Рейд, Стеварт, Бровн). Наконец, ярко выраженный английский утилитаризм, который – с эпистемологической точки зрения – оказывается номиналистической доктриной, примененной к этике, постоянно порождал идеалистически-спиритуалистическое встречное движение среди таких людей, как Джереми Бентхэм и Джеймс Милл, Джон Стюарт Милл и Герберт Спенсер, центром которого была школа Томаса Хилла Грина, к которой присоединились Брэдли и Кейрд. Американская ветвь этого «трансцендентального» или спиритуалистического движения, которое началось с Ралфа Уолдо Эмерсона и достигло кульминации в лице Уильяма Т. Харриса (в его «Журнале спекулятивной философии», основанном в 1867 году), ведет к первому американскому университету, Гарвардскому, где типичные представители современного номинализма и реализма (сегодня называемого прагматизмом и трансцендентализмом или идеализмом) в настоящее время скрещивают свои остро отточенные и отточенные клинки.
Во главе идеалистов в Гарварде стоит Джосайя Ройс, ведущий дух американского спиритуализма, к которому его немецко-американский коллега, Хьюго Мёнстерберг, недавно так тесно присоединился в своей «Философии ценностей» (Лейпциг, 1908), что смог посвятить свою книгу своему дорогому коллеге по Гарвардскому университету, профессору Ройсу, в «Дружбе и почитании». И так же, как в XIII веке. И точно так же, как в XIII веке в Оксфорде доминиканцам, представлявшим реалистическую версию универсалий с Альбертом Магнусом и позже Томасом фон Аквином, противостояли францисканцы под руководством Александра фон Галеса, отстаивавшие номинализм с Дунсом Скотусом и позже с Вильгельмом фон Окхамом, Сегодня «прагматик» Уильям Джеймс, профессор Гарвардского университета (где работает и Пибоди), сражается с открытым козырьком и в полном вооружении против своих коллег-идеалистов Ройса и Мёнштерберга.
Изречение Бена Акибы о том, что нет ничего нового под солнцем, подтверждается прагматизмом. Ни имя, ни вещь не новы. А Уильям Джемс, если не первый основатель этого метода мышления, то, по крайней мере, самый эффективный его популяризатор, имеет хороший вкус дать своим лекциям по «Прагматизму», которые недавно вышли в очень привлекательном переводе венского философа Вильгельма Иерусалема, апологетический подзаголовок: Новое имя для старых методов мышления. Популярные философские лекции. Это фактически обезоружит серьезную критику. Ведь люди не будут особенно расстраиваться из-за нового имени, да еще и в непритязательном обличье популярных лекций. Но все гораздо глубже. Со времен Хельмхольца, Хуксли и Маха мы привыкли слушать научно-популярные лекции с вниманием и ожиданием фундаментальных мыслей. При ближайшем рассмотрении прагматизм Джеймса оказывается не просто книгой, долетевшей до нас в немецком обличье – лекции Пибоди в Берлинском университете также были опубликованы в немецком переводе, – а большой интеллектуальной волной, впервые докатившейся до нас из-за океана и требующей нашего своевременного внимания. Прагматизм может вызывать противоречия. Однако у нас нет причин молчать. Это серьезное движение, предпринятое человеком, которого, как психолога и философа религии, мы без колебаний на минуту поставим в первый ряд современных мыслителей. Даже если в последнем томе «Американской философии», недавно опубликованном Дж. Вудбриджем Райли (Нью-Йорк, 1907), нет никаких следов прагматического метода (он цитирует Джемса только один раз, на странице 157), поскольку он ограничивается «Ранними школами», прагматизм сейчас у всех на устах. В Гарварде он стал шибболетом философов-кафедралов, и мы предсказываем этому модному направлению в философии не долгую, но все более интенсивную жизнь. Ибо это движение накалило темпераменты до точки кипения. Духи вспыхивают. Великолепные искры летят в этом соревновании между американскими мыслителями. Американцы вносят в философскую полемику новый ингредиент, которого нам так не хватало со времен Ренессанса: юмор. Они сражаются не личными колючими речами и острыми инвективами, как это делали между собой византийские гуманисты, а изящным фехтованием и отточенным оружием. На смену неуклюжей и безжалостной дубине, которой орудовал гуманист и человек эпохи Возрождения, приходит гибкий и податливый дамасский клинок.
Уильям Джемс уже затронул эту тему в своей двухтомной «Психологии». Это очень личная книга – несмотря на ее строгую научность. Озорство хихикает и иногда проглядывает посреди самых серьезных аргументов. Особенно мне запомнился пассаж о «милом старичке» и «немецком ученом» в его тонкой характеристике Фехнера (Principles of Psychology, Vol. I, 1890, p. 549). Его теория потока мыслей и опровержение теории сознания Герберта Спенсера – одни из самых блестящих произведений современной психологической литературы. Везде Джемс был и остается художником и исполнителем захватывающего насилия. Со времен Шопенгауэра мы не слышали акцентов такой радикальной визуальной силы. Конечно, не стоит искать мефистофельского качества специфического юмора Шопенгауэра, едкого и обидного характера его язвительной ингрима в оптимисте Вильяме Джемсе или восторженных упоений в пророческом оракульном тоне философского апокалиптика Ницше. Но хорошая доза той убедительной силы, которая исходит от непревзойденных стилистов Шопенгауэра и Ницше, присуща и стилю изложения Джемса. Юмор напоминает Шёпенгауэра, энтузиазм – Ницше, и счастливая смесь этих двух ингредиентов в Джемсе объясняет тот продолжительный эффект, который этот американский философ начал оказывать сначала в Америке, затем в Англии, Франции и Италии, и, наконец, даже в Германии.
Если ключевым словом прагматического метода является: активность, эффективность, практичность (power to work) =, то эта американская философия блестяще прошла свой прагматический тест на выносливость. Она работает. Она будоражит умы людей, вызывает яростную оппозицию, но и встречает восторженное одобрение – словом, она вносит жизнь и движение в философские дебаты нашего времени. Ни Джон Дьюи из Чикаго, ни логик Чарльз Сэндерс Пейрс из Университета Джона Хопкинса, ни представитель «гуманизма» в Оксфорде Фердинанд Кэннинг Скотт Шиллер, которых сам Уильям Джеймс называет отцами или крестными отцами прагматизма, не смогли бы достичь всего этого, если бы им не помогла пропагандистская сила пера Уильяма Джеймса, столь же живого, сколь уютного и сильного духом. Прагматизм стоит и падает вместе с Уильямом Джеймсом. Джемс использовал прагматизм как метод задолго до того, как нашел гипнотизирующий термин «прагматизм» у Пирса. Вспомните параллельный процесс с Лейбницем, который уже давно задумал свою теорию монад, прежде чем нашел термин «монада» у младшего ван Гельмонта. Но как только он нашел термин, которым хотел окончательно окрестить свою систему, он уже не расставался с ним. То же самое было и с Джемсом. Только десять лет назад в устном диалоге с ПЕЙРСОМ он взял на вооружение термин «прагматизм». Но смелый темперамент Джемса позволил ему быстро закрепить за собой этот термин и провозгласить его философским боевым кличем. В своих «Разновидностях религиозного опыта» Джеймс рассказывает историю возникновения прагматизма. В «Воле к вере» (Нью-Йорк, 1897) и в духовно искрящейся и эмоционально теплой «Беседе с учителями» (Нью-Йорк, 1899) он повсеместно применяет прагматический метод. Джемс разворошил осиное гнездо. Американские, английские и французские журналы выступили с критикой прагматизма. Диалектические удары наносились справа и слева, то тут, то там. Даже уважаемое «Философское обозрение» РИБО вышло из своего резерва. В февральском номере 1906 года он опубликовал интеллектуально-критическое эссе Лаланда. Кстати, в декабрьском номере 1878 года и январском 1879 года «Философское обозрение» уже опубликовало на французском языке фундаментальное эссе американского логика Пирса, незадолго до этого (в январе 1878 года) опубликованное Пирсом в американском журнале «Научно-популярный ежемесячник» под названием «Как сделать идеи понятными». Но сам ПЕЙРС использовал прагматический метод только в этом эссе, не вводя его названия. Конечно, он чаще использовал его в устных дискуссиях с Джемсом; публично – только с 1902 года, о чем Пирс сообщает в «Монисте» за апрель 1905 года и в «Словаре философии и психологии» Балдвина, 1902, т. I, с. 321.
Однако в центр философской дискуссии нашего времени прагматизм попал только благодаря последней книге Уильяма Джеймса: «Прагматизм – новое имя для некоторых старых способов мышления». Джеймс посвятил эти энергичные лекции, приправленные диккенсовским юмором, памяти Джона Стюарта Милла следующими характерными словами: «От него я впервые научился прагматической открытости ума и с радостью назвал бы его нашим лидером, если бы только он был жив». Мы должны будем помнить об этих словах посвящения, когда перейдем к критическому рассмотрению прагматизма. Книга Джемса ударила как диалектическая бомба. Эта книга распространилась в Старом Свете почти американскими темпами. В апреле 1907 года Джемс написал предисловие к своему «Прагматизму», а в ноябре того же года Вильгельм Иерусалем, венский переводчик книги, написал свое. Мы думаем и работаем с такой скоростью, как если бы мы передавали свои мысли по телеграфу или телефону – беспроводная философия“. К концу того же года, когда Джемс прочитал свои лекции по прагматизму в Колумбийском университете в штате Нью-Йорк, не только английский, но и немецкий перевод „Иерусалема“ был у всех на руках. Однако о том, что прагматизм у всех на устах в тот момент, когда я пишу эти строки (январь 1908 года), может свидетельствовать следующая подборка. Два первых январских номера американского журнала „The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods“ от 2 и 16 января 1908 года содержат весьма примечательный критический разбор прагматизма, сделанный Артуром О. Лоуджоя под заголовком: „Тринадцать прагматизмов“. И как если бы Джемс хотел защититься от этих 13 пунктов нападения паллиативной контркритикой, он опубликовал эссе под названием „Прагматистский счет истины и его непонимающие“ во главе январского номера американского „Философского обозрения“ (т. XVII, 1), в котором он с веселым беспристрастием рассматривает семь неправильно понятых взглядов и интерпретаций прагматизма. К счастью, в диалектических турнирных упражнениях там нет и следа филологического бешенства или тевтонского фурора, в которые обычно неприятно перерастают подобные полемические споры на старом континенте. Человек есть и остается джентльменом. Различия во мнениях встречаются обходительной улыбкой, но никаких ворчливых отрицаний или проклятий, предающих анафеме [проклятия – wp]. Хороший тон с обеих сторон оказывает успокаивающее воздействие. В январском номере „Revue de Mеtaphysique et de Morale“ Ксавье Лёна (т. XVI, 1) впервые публикуется не только эссе Эмиля Бутруа, маститого старшего из французских философов, „Уильям Джеймс и религиозное переживание“, но и трактат Д. Пароди „Прагматизм в изложении В. Джеймса и Шиллера“. В верхней части январского номера „Revue philosophique“ журнала Рибот мы находим второе эссе А. Лаланда „Прагматизм, гуманизм и вера“. В январском номере английского „Mind“ (Новая серия №65) И. Эллис Мактаггарт обсуждает прагматизм Джемса (стр. 104—110). В Италии Папини вел активную пропаганду прагматизма, которому он посвятил специальный журнал („Леонардо“). Только на немецкой стороне они следовали несколько нерешительно и неохотно. Они предлагают „пассивное сопротивление“. В последнем издании ?BERWEG-HEINZE (десятое издание, четвертая часть, 1906) „прагматизм“, разумеется, уже принят к сведению. Профессор Мэттон Монро Кёртис, редактор „Американской философии“, пишет (стр. 532): „Прагматизм – это, говоря психологическим языком, прагматизм: Прагматизм – это, в психологических терминах, вера в то, что идеи всегда стремятся к действию и что психическая жизнь всегда телеологична. Логически выраженный: логика схематически формулирует то, что упорядочивает жизнь, конкретный опыт, с целью достижения практических целей. Ее философский смысл заключается в том, что все факты природы, как физической, так и духовной, находят свое выражение в «воле». Воля и энергия тождественны.
Это направление соответствует практическим тенденциям американской жизни и мысли, поскольку ставит перед идеализмом конкретную цель (правильнее сказать: устанавливает фиксированный предел). Январь 1908 года, столь плодотворный для прагматизма, принес также два заметных заявления с немецкой стороны. В «Philosophische Wochenschrift» от 11 января 1908 года (том IX, №№1 и 2) доктор Рихард Мюллер-Фрайенфельс (Richard Mauller-Freienfels) опубликовал хорошо осведомленный обзор «Уильям Джеймс и прагматизм». Наконец, Вильгельм Йерусалем, переводчик «Прагматизма» и горячий сторонник этой новой школы мысли, опубликовал поучительное введение к «Прагматизму» в «Немецкой литературной газете» от 25 января 1908 года (т. XXIX, №4).
Если теперь суммировать все перечисленные здесь симптомы, то можно отметить две вещи. С одной стороны, очевидно, что «прагматизм» произвел более бурный и шумный эффект, чем любое философское движение со времен Ницше. С другой стороны, перечисленные здесь симптомы вызывают у редакторов «Архива» неоспоримый критический долг занять критическую позицию по отношению к этому «новому имени для старых методов мышления», как сам Джемс называет прагматизм, ввиду того огромного эха, которое прагматизм вызвал повсюду. Наше исследование сначала будет посвящено новому имени, а затем перейдет к новому методу.
II Затея с историей термина «прагматизм».
Не только книги, но и имена имеют свою судьбу. Философское слово «прагматизм» не так ново и не так захватывающе и характерно, как кажется его создателю Чарльзу Пирсу и его глашатаю Вильяму Джеймсу. И снова Бен Акиба торжествует: нет ничего нового под солнцем. И когда Джемс дает своей энергичной книге «Прагматизм», в которой он обрушивает настоящий шквал ослепительных ракет – это лекции в Бостоне и Нью-Йорке, прочитанные с пафосом прирожденного ритора, – подзаголовок: новое название для некоторых старых способов мышления, правда заключается в том, что это название так же старо, как и прагматический метод или способ мышления.
Выражения pragma и pragmateia столь же часто встречаются в платоновском диалоге «Кратил», но особенно в логических сочинениях Аристотеля (см. указатель Боница), сколь редки они в послеаристотелевской и тем более в досократовской философии. Значение слова pragma колеблется между «вещью», «предметом», «объектом» и «реальностью». В платоновском «Кратилосе» фраза pragmata legein, pragmata onomazein используется для обозначения деятельности, направленной на вещь или объект. В Платоне «enteixetai oion esti to pragma» означает, что именование или обозначение вещей состоит в указании на то, как эта вещь устроена. Согласно Платону, именование (onomazein) – это делание, действие (praxis) по отношению к вещам, например, резать, ткать или сверлить. Здесь прагма означает активность, действие (Кратил 387C). Здесь имя (onoma) противопоставляется названному объекту (pragma) так же, как dianoia противопоставляется logos в платоновском «Теэтете». Конкретные индивидуальные вещи (pragmata 262e) находятся в таком же общении друг с другом, как и их родовые типы (eide): syntheis pragma praxei oi onomatos kai pematos. Именно язык придает знакам или фонетическим образам вещи или предметы (pragmata).
У Аристотеля языковой фонетический знак соотносится с понятием, как имя соотносится с вещью. Здесь прагма означает конкретный индивидуальный объект. Аристотель замечательно подчеркивает разницу между числовыми знаками и фонетическими символами. В разговоре, говорит Аристотель, мы никогда не узнаем вещи (прагмы), а лишь используем имена как знаки вещей. Поэтому мы ошибочно путаем имя и вещь, заменяя вещь ее именем, как в системе счисления при вычислениях. В аристотелевской логике термин прагма играет важную роль в отличие от онома. В «Указателе Аристотеля» Боница содержатся десятки отрывков под ключевыми словами pragma, pragmateia, pragmateuesthai. Один раз даже встречается термин «прагматолог» (1438 ? 20). Сопоставление прагмы и онома, по-видимому, было распространено в сократовском кругу, предположительно уже среди софистов. Однако Аристотель также использует термин pragma в том значении, которое сегодня приписывают этому слову Пьерс и Джемс. Иногда Аристотель понимает его как реальное, данное в опыте, в отличие от просто мыслимых или чисто мыслимых вещей (entia rationis). В логических сочинениях и в «Метафизике» Аристотель неоднократно проводит различие между мыслью (dianoia) и реальным (pragmasi).
Не зря Джемс причисляет Сократа и, в особенности, Аристотеля к отцам прагматического метода, – говорит Джемс (Прагматизм, стр. 31), – в нем нет абсолютно ничего нового». Сократ был его последователем. Аристотель методично использовал его. Локк, Беркли и Хьюм с его помощью внесли значительный вклад в установление истины! Но не только сам метод, эмпирико-индуктивная процедура, которую Аристотелис богато развил наряду с силлогизмом и дедукцией, восходит к Аристотелису, но и терминологическое использование и натурализация «прагматизма» связаны с Аристотелисом. У Сократа и Платона этот термин появляется лишь случайно и эпизодически, и только в противопоставлении онома; только после Аристотеля термин приобретает логическую и эпистемологическую окраску. Теперь он означает конкретное в противоположность абстрактному, реальное в противоположность просто мыслимому, индивидуальный психический опыт в противоположность его логической связи, короче говоря: vеritе de fait (дело факта) [истина фактов – wp] в противоположность vеritе еternelle [вечная истина – wp]. То, к чему мы обращаемся как к pragma (вещь, предмет, материя, дело, опыт, идея, короче говоря, «реальность»), является психологической истиной, в то время как dianoia гарантирует нам вечную логическую истину. Учение, провозглашенное Джемсом с Локком и английскими сенсуалистами: истинное и ложное – это суждения, которые относятся не к вещам вообще, а только к идеям, – старый аристотелевский обиход. Вещи и предметы, говорит Аристотель, реальны или нереальны; истинны или ложны только идеи. С точки зрения этики, это эпистемологическое общее место в «Гамлете» Шекспира, как и в старом «Гераклите», означает, что добро и зло – это одно и то же. Вещи сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими; разум делает их таковыми. Прантль (Geschichte der Logik im Abendlande, Vol. I, p. 118) прекрасно воспроизводит этот ход мысли: объективное существование вещей не зависит от утвердительных или отрицательных высказываний человека о них, и не потому, что мы, люди, подразумеваем или говорим что-то, что оно объективно, но мы подразумеваем и говорим это, потому что оно объективно существует. Таким образом, АРИСТОТЕЛЕС указывает на постоянное внимание к опыту для всего прогресса, который должно совершить знание от просто истинного к необходимому и общему, но делает человека и его мышление ответственным за все то, что является или не является истинным.
Прагматизм по своему замыслу, если, возможно, не по своему действию, есть не что иное, как теория истины. Поиск нового критерия истины придает жизнь и краски этому философскому движению, которое возникает ярко и распространяется с молниеносной скоростью.
Шестая лекция «Прагматизма» Джемса озаглавлена: «Понятие истины в прагматизме». Непосредственная отправная точка этого движения, эссе Чарльза Пирса в американском журнале «Popular Science Monthly» от января 1878 года под названием: «Как сделать вещи понятными» – не что иное, как программное объявление нового критерия истины, который в то время еще не был окрещен «прагматизмом». В более позднем эссе («Что такое прагматизм», Monist, апрель 1905, стр. 171) Пирс сам сформулировал этот критерий истины прагматизма – полезность знания, его пригодность, его эффективность или полезность (power to work) – кратко и четко: «Просто рассмотрите, какие мыслимые практические последствия может иметь идея объекта: тогда идея этих последствий эквивалентна идее этого объекта». Георг Зиммель, которого Джемс, по общему признанию, называет типичным прагматиком – с несравненно большим основанием, чем, кстати, Рудольф Эйкен, чья теория деятельности гораздо больше напоминает Фихте, чем Милля и Спенсера, – уже нашел еще более сжатую версию в первом томе «Archiv f?r systematische Philosophie» (1895), не зная названия прагматизма и даже не поминая это направление, которое в то время еще находилось в зачаточном развитии. Эссе «Об отношении теории выбора к эпистемологии» завершается словами, которые можно было бы поставить перед словом «прагматизм» в качестве девиза: «Полезность познания одновременно производит для нас объекты познания». (стр. 45)
Уже Зиммель рассматривает полезность познания как основной фактор, приводящий к определенным способам действия, так что «первоначально познание не является сначала истинным, а затем полезным, но сначала полезным, а затем названным истинным». В своем усилении до избирательного акта Зиммель придает этому критерию истины биологический изгиб, который стал преобладающим со времен Авенариуса и Маха. Сама мысль является подлинно лейбницевской. Лейбниц признает истинным существование только того, что действует (quod agit). В Англии и Америке этот критерий истины получил эпитет «инструментальный» (в отличие от «нормативного»).
Американский логик Джон Дьюи («Studies in Logical Theory», Chicago 1903) дал направление этой эмпирико-индуктивной или «инструментальной» логике, а оксфордский философ К. Ф. С. Шиллер в серии работ («Аксиомы как постулаты» в сборнике «Личный идеализм», 1902; «Гуманизм», 1903; «Исследования по гуманизму», 1907) попытался создать более популярную версию и потребовал переноса инструментального метода, который до тех пор действовал только в логике, на все области знания и смог донести его до широкой читательской аудитории ярким, живым языком. Поначалу прагматики плыли под разными флагами. Интенциональные или инструментальные – так первоначально называли прагматиков, более заинтересованных в логике. «Джеймса называли «радикальным эмпириком» до того, как он использовал этот термин в лекции для «Философского общества» профессора Харрисона в Калифорнийском университете в 1898 году и применил его к религии (см. «Прагматизм», стр. 29). Ф. К. С. Шиллера называли «гуманистом» до того, как он присоединился к Джемсу и принял термин «прагматизм» для своего мировоззрения. Итак, подводя итог, можно сказать, что та же самая битва, которая в течение последнего десятилетия шла в Германии между психологами и логиками – полемика Мельхиора Палыги дает наилучшую информацию о состоянии проблемы – принимает форму стычки между прагматиками и спиритуалистами или идеалистами pure sang [чистая форма – wp] по ту сторону воды. Протагора – модель одних (Шиллер так же привержен протагоре, как, например, Лаас и Мач), Платон – других. Новое вино в старых бурдюках. Эмоциональное содержание прагматизма Джемса исходит от Протагора, тогда как своим методом и выражением он обязан Аристотелю.
Сам Джеймс комментирует историю прагматизма следующим образом (Прагматизм, стр. 28): Название происходит от греческого слова pragma, означающего «действие», от того же корня, который лежит в основе наших слов «практика» и «практический». Эта этимологическая деривация от Джемса по меньшей мере односторонняя. Мы показали выше на основе использования языка Платона и Аристотеля, что pragma по своей сути означает вещь, объект, реальность и, таким образом, имеет более эпистемологический привкус. Популярным выражением было «авто» к прагме – «сам предмет». Оттенков «практичный», «полезный», «желанный», «желаемый», «желанный», «желанный» изначально в прагме не было. Только у стоиков, наиболее типичных представителей прагматизма в современном понимании этого слова, то есть с акцентом на намеренном и полезном, осязаемо телеологическом, прагма приобрела вторичное значение, введенное Джемсом. Как известно, стоики были представителями того космически-антропоцентрического утилитаризма, который возводил человеческую полезность в стандарт реальности и истинных ценностей.
Вот как определяет его великий глава стоической школы Хрисипп у Диогена Лаэртского (VII, 94): Добро – это то, что нравственно полезно. Зло – это то, что морально вредно. Вопрос о telos находится в центре их этики. Всякое благо, говорится в ней (там же, VII, 98), полезно (sympheron). Мы называем благом то, что приносит нам пользу (ophelimon). Если Аристотель уже утверждал, что в природе нет ничего бесполезного или напрасного, то стоики карикатурно доводят этот утилитарный принцип до полного идиотизма. С появлением Хрисиппа утилитаризм превращается в фарс. Согласно Цицерону (de natura deorum II, 13, 37), все вещи в мире существуют только ради богов и людей, как, например, лошадь для езды, вол для пахоты, собака для охоты и охраны. Градуированный порядок существ столь же утилитарен по отношению к человеческому роду, составляющему центр мира, как и само человеческое сообщество, выведенное и основанное чисто утилитарно (Cicero, de finibus III, 20, 67). И вот фактический основатель прагматизма Чарльз Сэндерс Пирс прямо указывает на родство своих идей со Стоа. В «Словаре философии и психологии» Балдвина, 1902, т. II, с. 323, родоначальники прагматизма, Пирс и Джеймс, сами используют ключевое слово «прагматизм». Этимологически там приводится следующая деривация: Прагматизм (гр. pragmatikos, сведущий в делах [сведущий в делах – wp]). Как показано выше, эта деривация исторически несостоятельна. В употреблении находятся только pragma и pragmateia, но не pragmatikos. И даже pragma у Платона или Аристотеля никогда не означает «сведущий в делах», то есть искусный, умный, опытный, но изначально вещь или предмет, в отличие от имени или звукового символа. Однако в послеаристотелевской философии термин pragma или pragmateia исчезает из употребления. В «Doxographi Graeci» Германна Дильса эти выражения встречаются лишь в полудюжине мест. Чем позже употребляется слово pragma, тем больший акцент делается на практическом значении, подчеркиваемом Пирсом и Джемсом, точно так же, как пост-аристотелевская философия в целом смещает фокус мысли с теории на практику, с логики и физики на этику. Не благо восходит к истинному, а истинное теперь восходит к благу. И это основная идея прагматизма Пирса-Джеймса. Решающей эпистемологической точкой зрения Пейрса и Джеймса являются последствия. Как со времен первых утилитаристов большого масштаба, киников или гедонистов, нам известна мораль последствий, а именно мораль полезности, названная так позже Бентамом и Миллем, так и в прагматизме есть попытка сформулировать логику последствий. Определение Джемса следует поставить в один ряд с определением, данным выше Пирсом (Пирс, кстати, повторил свое определение в словаре Балдвина, «Прагматизм»). Прагматизм – это, согласно Джемсу, « учение о том, что весь смысл понятия выражается в практических последствиях, последствиях либо в форме поведения, которое следует рекомендовать, либо в форме опыта, с которым следует считаться, если понятие истинно». Очень примечательно, что Пирс, по его собственному утверждению, получил вдохновение для своего прагматического метода, прочитав «Критику чистого разума» Канта (Словарь II, стр. 322). Как Кант был однажды пробужден от догматической дремоты Юмом, так и Пирс был пробужден Кантом. Но Пирс добавил: «тот же способ обращения с онтологией, похоже, практиковали стоики». [тот же способ обращения с бытием практиковали уже стоики – wp]. Однако реальным стимулом для него была логическая постановка прагматической проблемы – он был математиком школы Вейерштрасса, в чем он признается там же, в то время как Джемс преимущественно психологически ориентирован и интересуется философией религии, так что за фактическую плодотворность «нового метода» следует благодарить Джеймса. Пирс с обходительной и тонкой отстраненностью рассказывает о том, как Джемс в 1896 году в «Воле к вере» с радостью взял на вооружение свой метод и применил его в жизни, не зная в то время термина «прагматизм»: «Доктрина, похоже, предполагает, что цель человека состоит в действии – стоическая аксиома, которая уже не так настоятельно рекомендуется сегодняшнему писателю в возрасте шестидесяти лет, как тридцатилетнему».
Это проясняет исторический генезис прагматизма, основанный на самопризнании его создателей: выражение заимствовано из платоновско-аристотелевского обихода, а сама теория возникла со ссылкой на «стоическую аксиому». Суть всей проблемы – в примате воли, практического разума, как сказал бы Кант, над мышлением. Вот почему Джеймс также гораздо более строгий волюнтарист или активист, чем, например, Вундт; он гораздо ближе к доктрине примата чувства над разумом, как это было в английской эмоциональной философии XVIII века и сегодня празднует свое возрождение в психологической школе Теодуля Рибо во Франции и в «Weltanschauungslehre» Хейнриха Гомперца в Вене. У Джемса, как и у Рибо, волюнтаризм Шопенгауэра приобретает изгиб Гамана-Якоби, которому Гёте когда-то дал лаконичную формулу: Чувство – это все. Джемс очень ошибается, вступая в страстную полемику с Гербертом Спенсером, в котором он видит свою эпистемологическую противоположность, в то время как в своей последней работе Спенсер учит примату чувства точно так же, как Джемс и Рибот. Прочитайте трактат Спенсера «чувство против интеллекта» в его последней работе «Факты и комментарии», 1902 год, и вы найдете следующие предложения, которые уже дословно присутствуют у Дунса Скота, но которые не уступают по решительности предложениям Джеймса: «Главным компонентом разума является чувство» (стр. 25) … «чувства – хозяин, а интеллект – слуга» (стр. 30). Это суккус [целебное зелье – wp] Джеймс-Риботской формы волюнтаризма Шопенгауэра.
Если прагматизм таким образом черпает свои теории из Стои, а вдохновение для него – у Канта, который также наделял практический разум приматом над теоретическим, то, возможно, Кант также является невинной причиной того, что название «прагматизм» было подхвачено и введено в повседневный философский оборот как мелкая монета. Я имею в виду не столько название «Антропологии» Канта, которую сам Кант назвал «в прагматических терминах», сколько предисловие Канта к этой работе, в котором прагматическое противопоставляется физиологическому:
«Физиологическое знание о человеке занимается исследованием того, что природа делает из человека, прагматическое – того, что он, как свободно действующее существо, делает из себя, или может и должен делать из себя». Согласно Канту, например, все правила благоразумия являются прагматическими («Grundlegung zur Metaphysik der Sitten», стр. 42, издание Rosenkranz). Он называет прагматичным все практическое, что служит благу человека. «Практический закон из мотива счастья я называю прагматическим» («Критика чистого разума», с. 611). Согласно Канту, прагматизм, таким образом, был бы правилом благоразумия или утилитарным предписанием, обладающим случайной убедительностью. Решающая характеристика необходимого и общезначимого полностью отсутствует в прагматическом познании; это только вера, а не знание (Kr. d. r. V., стр. 623). И это не необходимое, а случайное убеждение.