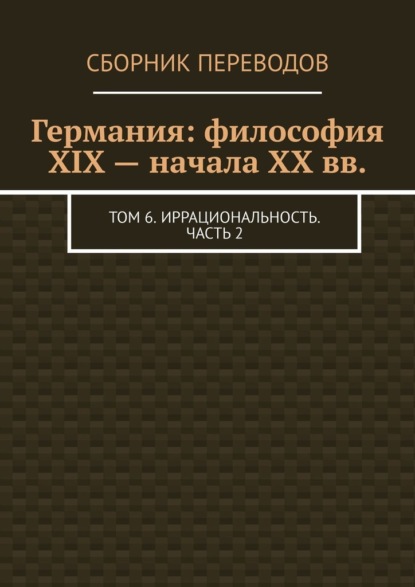По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 6. Иррациональность. Часть 2
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Илариу Соколиу, «Grundprobleme der Philosophie kritisch dargestellt und zu l?sen versucht», Bern 1895, также отдает дань уважения философии данности, хотя и с собственными вариациями. Segall-Socoliu, Zur Verj?ngung der Philosophie [Psychologische Untersuchungen auf dem Gebiet des menschlichen Wissens], Berlin 1893, который стремится объединить доктрину имманентности и монизма с реализмом («существование расширенного содержания восприятия в транссубъективном, т.е. внешнем мире»), рационализмом и телеологическим механизмом. – Некоторые небольшие работы, авторы которых в большей или меньшей степени поддерживают имманентность, должны быть проигнорированы. Следует также отметить, что подобных взглядов придерживаются также во Франции и Англии.
LITERATUR Friedrich ?berweg, Grundri? der Geschichte der Philosophie, Bd. 4, §24. «Immanente Philosophie oder Philosophie des Gegebenen», hg. von Max Heinze, Berlin 1902.
Людвиг Кухленбек (1857 – 1920)
О психологии чувства справедливости
Ни в актуальной психологической, ни в юридическо-философской литературе нет достаточной информации о природе чувства справедливости. Однако в рамках позитивной юриспруденции оно обоснованно рассматривается как asylum ignorantiae [убежище невежества – wp]. [1 - Как только речь заходит о чувствах, всякое обсуждение прекращается.]Тем не менее, развитое чувство справедливости, не только как так называемый правовой такт (чисто научная интуиция), но и в смысле этического аффекта, несомненно, является одним из самых прекрасных и высоких цветов духовной жизни человека, и поэтому не только заслуживает внимания психолога в высокой степени, но психология чувства справедливости должна, по моему мнению, рассматриваться как фундаментальная вспомогательная наука для философии права, если последняя не впадает в ошибку чисто концептуальных спекуляций, повторяемых до изнеможения. Там, где (субъективное) право перестает быть делом чувства, его корень, который, я убежден, является также психологическим корнем объективного права – нет сомнений, что объективное право существует только ради субъективного права, – должен увянуть и умереть. Единственный достойный прочтения трактат о чувстве права ex professo, который мне удалось найти, принадлежит Густаву Рюмелину (Reden und Aufs?tze 1875, pp. 62—87); я думаю, что буду изредка касаться его, но сначала попытаюсь развить здесь некоторые мысли с точки зрения, совершенно противоположной исходной точке зрения Рюмелина, которая, кстати, ввиду большой важности и трудности предмета, может претендовать лишь на предварительное и еще весьма предварительное значение, так сказать.
Во-первых, нам необходимо понять психологический смысл чувства вообще. «Чувство» – слово необычайно широкое, простирающееся от (элементарных) чувств, связанных с непосредственными чувственными восприятиями, до так называемых общих чувств и далее до интеллектуальных чувств, а внутри последних – до этических чувств. Тот факт, что в психологической литературе мы не находим согласованного определения чувства, не должен нас удивлять; равно как и попытка найти такое определение, которое может быть удовлетворительно дано только общим содержанием психологии чувства, не должна казаться по меньшей мере преждевременной. Мне только кажется необходимым с самого начала отказаться от ложного исходного положения об особой способности души как способности чувствовать, которая разветвляется в указанных направлениях. Скорее, под чувством мы понимаем основной феномен душевной жизни, не поддающийся дальнейшему описанию в его соответствующей конкретной специфике, который оттеняет каждое ощущение и каждую идею, то есть каждый образ ощущения в памяти, либо как приятный, благоприятный, подходящий для нашего самосохранения или даже улучшения существования, либо, наоборот, как неподходящий, враждебный, неприятный[2 - «Очевидно, что в оппозиции между удовольствием и неудовольствием – первичной оппозиции в мире чувств – можно увидеть выражение оппозиции между прогрессом и упадком самого жизненного процесса». – Харальд Цоффдинг, Психология, стр. 378.]. Поэтому с научной точки зрения представляется более точным не говорить об ощущениях как таковых, а, поскольку каждое конкретное ощущение – это лишь особое качество определенных ощущений (комплексов ощущений) или идей (комплексов идей), говорить об ощущениях и тонах (акцентах ощущений). В целом и – это важно – без исключений – только поверхностное самонаблюдение может нас обмануть[3 - ср. Хофдинг, указ. соч. стр. 397: «Чисто теоретическое рассмотрение могло бы, конечно, привести к мнению, что на линии, ведущей от наивысшего удовольствия к сильнейшей боли, должна существовать центральная точка, которая лежит на равном расстоянии от двух крайних концов. Но этот теоретический центр не может быть выражением реального состояния сознания».] – эти эмоциональные тона могут быть теперь обозначены либо отрицательным, либо положительным знаком, то есть либо как чувства неудовольствия, либо как чувства удовольствия. Хотя отдельные ощущения или идеи могут приближаться к нулевому пределу, то есть к абсолютному безразличию, этот предел никогда не достигается; если бы это было допущено, то это означало бы возможность совершенно абстрактных идей или безразличных ощущений, чисто научно-теоретической абстракции, нереальность которой, как мне кажется, я более подробно доказал в первой главе моего «Горца мира мысли»[4 - Кухленбек, Im Hochland der Gedankenwelt, Grundz?ge einer heroisch-?sthetischen Weltanschauung (Individualismus), Leipzig 1903.].
Прежде всего, теперь ясно, что мы имеем дело с чисто интеллектуальными эмоциональными тонами, т. е. с идеями или комплексами идей, а не с непосредственными ощущениями, в случае тех эмоциональных тонов, которые мы обычно обозначаем словом Rechtsgef?hl. Конечно, следует отметить, что не существует априорных или абсолютных эмоциональных значений для любых идей. Ср. Ziehen, Leitfaden der physiologischen Psychologie, стр. 123.
«Не только по своему содержанию, но и по своей эмоциональной ценности все наши идеи являются потомками наших ощущений. Идея благодарности или любой другой добродетели никогда не была бы связана с положительным эмоциональным тоном, если бы мы однажды не радовались актам благодарности, которые мы видели или слышали, короче говоря, которые мы чувствовали».
Но для понимания эмоциональных тонов, связанных с такими сложными представлениями, как представления о праве, то есть о нашей или чужой субъективной сфере интересов и ее признании, необходимо знание психологического закона иррадиации. Этот закон гласит, что тон чувства, свойственный определенному ощущению, может с особой интенсивностью передаваться другим элементам воображения через посредство ассоциации и даже компенсировать или, так сказать, заглушать их противоположные признаки.
«Например, дурно пахнущий цветок неприятен нам в памяти в целом (возможно, несмотря на его красивую форму): частичное представление о запахе перенесло свой эмоциональный тон на все конкретное представление. Вся наша эмоциональная жизнь, а значит, и все наше поведение находятся под влиянием этих иррадиаций. Наши антипатии и симпатии, предрассудки и предубеждения проистекают главным образом из этого источника». (Ziehem, op. cit., page 125)
Применительно к определенному сложному интеллектуальному эмоциональному тону – зависти – Цихен говорит следующее:
«Зависть – это сложный тон чувства, который иногда сопровождает ощущение и воображение другого человека при очень определенных обстоятельствах. Например, я думаю о знакомом, который приобрел то, что мне не удалось приобрести, скажем, для закрепления мнения, редкий минерал. Какому облучению подвергается мое представление об этом знакомом в данном примере? Само представление о завидующем знакомом уже имело определенный своеобразный эмоциональный тон, обычно слегка негативный, до того, как он стал обладателем минерала и, таким образом, стал объектом моей зависти. Более того, само представление о камне ассоциативно связано с представлением о моем знакомом с тех пор, как он его приобрел. Этот образ связан со своеобразным чувством вожделения и переносит его, хотя и в слабой степени, на образ знакомого. Существует также ассоциативная связь с представлением о моей собственной коллекции минералов, в которой отсутствует данный камень; это представление сопровождается сильным отрицательным эмоциональным тоном определенного качества. Это также облучает идею знакомого. Добавляются идеи о тщетных усилиях, которые я сам предпринимал, чтобы приобрести камень: интенсивно негативные своеобразные эмоциональные тона этих идей также передаются идеям известного». (Ziehen, указ. соч. С. 127).
Пытаясь воспроизвести эту схему эмпирического выведения сложного интеллектуального эмоционального тона для чувства справедливости, я пришел к следующим результатам:
1. Чувство справедливости может пробудиться только через нарушение справедливости, т. е. через нарушение интересов отдельного человека, и поэтому имеет исходное чувство с отрицательным знаком. Пока оно остается чисто индивидуальным, оно совпадает в своем элементарном корне с аффектом мести. Возьмем самый чувственно яркий и, на мой взгляд, самый примитивный случай (в том числе и в истории права) – случай физической травмы. Индивид А, пострадавший от индивида Б, естественно, отреагирует против Б чувством мести, которое, по сути, есть не что иное, как стремление к самосохранению, мотивированное ассоциациями памяти и ожиданий. См. более подробно мои «Естественные основы права и политики», стр. 181. (Это предполагает, что после совершения оскорбительного акта обидчик и (облученный!) враг признается таковым и снова наносит рану с сознательной ссылкой на полученную травму. Удовлетворение от мести теперь, наоборот, характеризуется ярко выраженным положительным эмоциональным тоном. (Кстати, конечно, этот опыт лишь внешне говорит в пользу известной догмы Шопенгауэра о «негативности чувства удовольствия», ошибочность которой, возможно, будет иногда обсуждаться позже при рассмотрении аналогичной теории Цительманна.[5 - ср. пока что Хофдинг, указ. соч. стр. 394]
2. Для того чтобы индивидуальное чувство мести смягчилось или прояснилось в чувство справедливости, необходимо, однако, добавить социально обусловленные, очень сложные ассоциации, для анализа которых нам может послужить классический пример из истории римского права. Римский центурион (Livius VI, 14), обедневший от военной службы, но имеющий большие военные заслуги, по суровому патрицианскому закону о долге присуждается к уплате своему кредитору в качестве *nexus и оказывается под угрозой продажи trans Tiberim из-за manus injectio. Чувство справедливости патрициев не обижается на это, но чувство справедливости плебеев, к которым принадлежит центурион, обижается еще больше, и в конце концов конфликт между этими взаимно противоречащими друг другу чувствами справедливости приводит к смягчению позитивного обязательственного права. Элемент, который появляется здесь в качестве дополнительного фактора чувства справедливости, Рюмелин, указ. соч. стр. 68, правильно характеризует как сострадание. Однако, на мой взгляд, Рюмелин слишком преждевременно предвосхищает его лучшее и наиболее ясное развитие в форме всеобщего человеколюбия и в конце концов даже «преобразует» его (стр. 74) в «общий принцип» «равенства всех людей», что, на мой взгляд, даже в корне неверно.
Выбранный исторический пример скорее учит нас о менее априорном альтруистическом корне этого нового элемента, представленного борьбой за существование и связанным с ней выбором того, что является социально целесообразным. Сам кредитор чувствовал, как справедливо замечает Йеринг в своей характеристике древнейшего обязательственного права (Geist des r?mischen Rechts I, стр. 125), в manus injectio удовлетворение своего индивидуального чувства справедливости как месть за нарушение его имущественных интересов. Патриции, однако, чувствовали себя вместе с ним, хотя и в меньшей степени, поскольку он был одним из «их людей», поскольку они могли поставить себя в его положение, а не в положение плебея, и поэтому характеризовали принуждение своего законного genoese (товарища по интересам) положительным эмоциональным тоном (иррадиацией). С плебеями дело обстояло как раз наоборот: для них представление о патриции-кредиторе уже имело негативный эмоциональный тон, хотя и более легко гармонизируемый в зависимости от личного контакта, тогда как представление о центурионе как о собственном товарище по закону имело позитивный индекс в силу общей идеи солидарности – продукта социальных условий. Положительный эмоциональный тон в данном случае, несомненно, усиливался особым уважением, которым пользовался этот человек. Таким образом, мы видим, что чувство справедливости на своем первом этапе, как альтруистически ориентированное социальное (этическое) чувство, оторванное от корысти, основывается на уже очень сложных ассоциациях представлений и иррадиациях эмоционального тона. Собственно чувство справедливости формируется только в сообществе, сосуществование которого подчиняется определенным, пусть даже неписаным, общим правилам, и, несомненно, становится осознанным только при нарушении этих правил. Таким образом, мне, по крайней мере, хотелось бы верить, что первые мысли о добре и зле в индивидуальной жизни современных цивилизованных людей зарождаются в семейном сообществе, например, когда ребенок «чувствует» себя неполноценным по сравнению с другим. В той мере, в какой правильное или неправильное является понятием, то есть комплексом ассоциаций, это понятие ценности, и в этом смысле – а не в смысле врожденной способности – чувство претендует на первенство в формировании понятия правильного. Однако, с другой стороны, развитие познания, то есть объема понятийных масс, несомненно, является необходимой предпосылкой для его более высокого развития. Это можно проиллюстрировать анекдотом из миссионерских кругов. Миссионер, интересуясь этическими представлениями туземного вождя, спрашивает его, что он считает самой большой несправедливостью (преступлением). Ответ: «Когда кто-то из нашего племени крадет женщин или скот у другого». Он переворачивает вопрос и спрашивает, что он считает величайшей заслугой, величайшей честью: Ответ: «Когда мы крадем женщин или скот у другого племени!»
То, что Хёфдинг говорит о сочувствии (Psychologie in Umrissen, p. 356), справедливо и для развития чувства справедливости. Мы видели ха, что прояснение эффекта мести для чувства справедливости возникает из возможности поставить себя «на место другого». Теперь Хёфдинг пишет, указ. соч:
«Особенно трудно поставить себя на место других людей, когда их внутренние или внешние условия жизни сильно отличаются от наших собственных. Разные языки (греки – варвары), разный цвет кожи (африканские рабы) и разные верования долгое время оказывали жесткое сопротивление росту сочувствия в человеческой расе. Отсутствие симпатии к животным часто возникает (особенно у детей) по этой причине. – Формальное, логическое следствие также может иметь здесь большое значение. Пока симпатия не развита до полной ясности, она делает исключения и устанавливает барьеры, которые не вытекают из природы обстоятельств».
3. Несомненно, что чисто формальная, логическая последовательность может привести и к ослаблению действительного чувства права, аффективной основы всякого практического правообразования. Безусловно, признание так называемых универсальных «врожденных» прав человека, разработанных христианством, этот отрыв чувства права от барьеров национальной общности, представляет собой большой шаг вперед. Однако этот же прогресс несет с собой опасность неправильной оценки ценностного момента в чувстве справедливости, что наиболее ярко выражается в suum cuique [каждому свое – wp] идеи справедливости, которая должна вступить в конфликт с догмой о «равной ценности всех людей», как мы уже видели, даже подписанной Рюмелином. Старая германская аксиома judicium inter pares [справедливость среди равных – wp] основана на противоположном понимании. Только равный в социальном плане может в какой-то степени сопереживать положению того, чьи интересы были нарушены. Крестьянин действительно будет испытывать правовое сочувствие к фермеру, чья крестьянская собственность была нарушена, например, кражей скота; – но может ли он судить и сочувствовать, когда речь идет о нарушении интеллектуальной (художественной) собственности или профессиональной чести офицера, – большой вопрос.
4. Наконец, ссылаясь на Гербарта (см. Берольцхаймер, Система философии права и экономики, т. II, с. 263), Рюмелин, указ. соч., с. 70f, ищет истоки чувства справедливости во врожденном инстинкте порядка. (Herbart: «Der Streit mi?f?llt». ) Он пишет:
«Как созерцательный инстинкт порядка, он (инстинкт порядка) ищет единства и гармонии для наблюдения за миром; он порождает идею прекрасного и истинного, искусства и науки. Как практический инстинкт, связанный с волей, он ищет единства и гармонии для деятельности инстинктивной жизни; он порождает идею добра с различением субъективной и социальной формы, морали и права».
Я признаю, что чувство права в своем благороднейшем развитии, в своей научной и художественной утонченности также имеет большое сходство с эстетическим наслаждением гармонией (или, в случае нарушения права, – с неудовольствием дисгармонией), но я считаю априорной ошибкой желание вывести этот, самый прекрасный интеллектуальный цветок из врожденного общего инстинкта в этом направлении. Чувство права не формируется в человеческой душе заранее, а, если воспользоваться выражением, часто употребляемым Бенеком в его психологических набросках для объяснения так называемых способностей души, в лучшем случае предопределяется. Другими словами: это очень сложный продукт исторического развития, обусловленный разнообразными ассоциациями и как таковой изменяемый в любое время. Она коренится в эгоистическом (индивидуальном) самоутверждении, имеет ту же исходную точку, что и месть, но получает свое дальнейшее развитие из общинной жизни и, как всякое этическое чувство, растет по мере познания. Следует, однако, заметить, что при таком уточнении и расширении оно обычно теряет свою свежесть и интенсивность. Такое страстное чувство справедливости, как, например, у римлян первого периода, немыслимо среди современных цивилизованных народов. Здесь, как говорит Рюмелин,
«вся юридическая жизнь превращается в специализированный предмет, переплетения жизненных условий становятся столь неисчислимыми, потребность в очень резких и точных разграничениях становится столь настоятельной, что чувство справедливости скоро выдыхается на этом долгом пути и должно быть заменено логико-техническим элементом». (Рюмелин, указ. соч., стр. 83)
Однако большая опасность, заключающаяся в том, что формирование и администрирование права в конечном итоге оторвется от первоначального чувства права[6 - «Право – это общее благо, – Оно живет в каждом сыне земли, – Оно вливается в нас, как кровь в сердце!» – говорит немецкий поэт об исторически подтвержденном сильном чувстве справедливости (Людвиг Уланд).], может быть, на мой взгляд, устранена только путем углубления наших психологических знаний (индивидуальной и международной психологии, особенно сравнительной психологии) и их использования как de lege lata [в соответствии с действующим правом], так и de lege ferenda [в отношении будущего права].
LITERATUR Ludwig Kuhlenbeck, Zur Psychologie des Rechtsgef?hls, Archiv v?r Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, Bd. 1, Berlin und Leipzig 1907/1908
Кристиан Берч-Райхенвальд Аарс (1868 – 1917)
Теория энергии и прагматизм
Дамы и господа!
Философские школы, о которых в наши дни говорят громче всего, – это, пожалуй, те две, которые обозначены вышеупомянутым названием. Обе они тесно связаны с критикой. Современная наука скромна, или, скажем прямо, скептична; она больше ни во что не верит – ни в атомы, ни в пространство, ни в души, ни в что-либо еще. Старый мастер Кант проводил этот скептицизм в жизнь самым резким образом, но в то же время прикрывал и скрывал его самыми красивыми и сложными формулами. Его скептицизм был таким же острым, а может быть, даже острее, чем у Юма. Наш взгляд на мир ошибочен, ошибочен от конца до конца и не может быть заменен лучшим.
Таким скромным человеком стал Иммануил Кант; его преемники, однако, идут дальше в скромности (и очень справедливо), говоря, что наше мировоззрение может быть ошибочным, но с таким же успехом оно может быть и правильным, и мы не можем судить об этом. Одним из худших современных скептиков в кантовском смысле является Август Вайссманн, для которого эта доктрина приобрела совершенно научную окраску. Наш мозг – это физиологическая адаптация, поэтому он никак не предназначен для познания, а только для действия. Если бы у нас был мозг, сформированный для совершенно посторонней цели – распознавания истины, мир, вероятно, показался бы нам совершенно иным, чем сейчас. Такой взгляд на вещи подкрепляется эволюционным законом экономии природы. Вероятно, природе потребовались бы неисчислимые усилия, чтобы оборудовать наш мозг для правдивого и истинного познания природы, и мозг, необходимый для этого, должен был бы быть в тысячу раз сложнее, чем наш. Потребовалось уже достаточно усилий, чтобы создать достаточно полезный мозг таким образом, чтобы живое существо могло в какой-то степени помогать себе в жизни с помощью символов и всевозможных иллюзий.
По отношению к истине все наши символы – обманки, но по отношению к потребностям нашей жизни они являются надежными проводниками, поскольку вредные обманки устраняются борьбой за существование.
Прагматизм настаивает не столько на негативных, сколько на позитивных элементах этого предложения: наше знание подтвердило себя в жизни, и это жизненное испытание является единственно возможным критерием правильности нашего знания. Теория энергии несколько больше восходит к первоначальной тенденции критической философии, поскольку она отвергает вопрос о реальности и считает, что наука может быть поглощена определением законов опыта. Если старый вопрос: «Что длится в мире?» оказался неразрешимым, то теперь, согласно натурфилософии, мы ставим вопрос иначе: «Что изменяется в мире?» и «По каким законам это изменение происходит?». Читая работы Оствальда, никто не может не вспомнить о древних греках, о тех временах, когда учение о бытии и учение о становлении враждовали друг с другом, и прежде всего о великом Гераклите с его знаменитой фразой: «Все течет, бытие – это обманчивая видимость, которая образуется, когда распад и рост на мгновение сдерживают друг друга». Точно так же Оствальд говорит: Мы не должны спрашивать о субстанциях или вещах вообще; мы признаем только энергии, все или почти все из которых могут быть преобразованы друг в друга. Философское противоречие, с которым мы здесь сталкиваемся, в конечном счете основано на дихотомии нашего опыта. Мы переживаем отчасти изменения, отчасти постоянные вещи; последние принято называть ощущениями, и мы часто думаем об изменении, как если бы одно постоянное ощущение сменилось другим и т. д.; но на самом деле лишь в редких случаях мы действительно переживаем ощущения; в основном мы переживаем не постоянное, а изменения ощущений. Между тем мы лучше всего ориентируемся в мире, сравнивая и сопоставляя между собой постоянные ощущения. Поэтому в процессе изменений у нас сформировалась привычка концентрировать свое внимание не столько на том, что меняется, сколько на начальных и конечных звеньях ряда, причем эти постоянные звенья мы обычно создаем сами, игнорируя их небольшие, только заметные изменения. Вещество первоначально было в основном таким отрывком из мира изменений, но с самого начала люди не столько пытались определить постоянный опыт с помощью этого понятия (или понятия вещи), сколько постичь реальность, скрытую за опытом и длящуюся за его пределами. Сторонники новой натурфилософии, вероятно, полагают, что смогут вновь уйти от этого понятия, сосредоточив внимание не на том, что постоянно, а на изменениях и законах изменений.
Я не могу не думать, что сам Оствальд упускает из виду тот факт, что мир энергий – это нечто совершенно новое и отличное от мира опыта. Энергия, конечно, не является чем-то неизменным, как, например, вещество, но, тем не менее, в ней есть что-то от этой самой неизменности. Энергия неразрушима, она лишь изменчива, но не разрушима. Нечто подобное не относится к опыту. Энергии могут изменяться друг в друге только по определенным законам, и прежде всего по закону эквивалентности. К переживаниям подобные законы вообще не применимы, и, прежде всего, они абсолютно все разрушимы. Я считаю, что современная теория энергии содержит много прекрасного, но она все еще нуждается в очищении в направлении осознания того, что она тоже работает с гипотезами, а не непосредственно с опытом. Родоначальник критицизма, сам Кант, совершает ту же ошибку, что и Оствальд, считая, что явления могут быть пережиты как таковые, и в то же время понимая под ними именно объекты объективного мира, которые как таковые являются гипотезами, а не переживаниями. Эмпиризм преувеличивается критиками и выходит далеко за свои оправданные пределы, когда эти люди учат, что наука должна обходиться без гипотез и работать только с опытом. Это означало бы отказ от синтетических максим Канта и отступление к аналитическим, и было бы чистейшим самоубийством науки. Наука вообще не может опираться на чисто субъективное, а должна везде считаться с объективным, то есть с гипотезами. От прежнего догматизма истинную критическую и эмпирическую науку отличает то, что они признают истинными только те гипотезы, которые поддаются проверке. Научные гипотезы должны быть способны подтверждаться опытом, а это означает, опять же на психологическом языке, что они должны однозначно определять новые ожидания. Я считаю, что этот очищенный критический принцип вполне совместим с теорией энергии. Закон эквивалентности не относится непосредственно к опыту, но, тем не менее, теснейшим образом связан с ним, поскольку однозначно определяет наши ожидания и поэтому может быть в любой момент эмпирически проверен. Таким образом, энергии – это не человеческие переживания, а существа, которые живут отдельно от нас, совершенно независимо от нас. Что же это за существа? Сам Оствальд дает нам ответ, что это причины, и здесь он снова совершенно прав, мы вряд ли можем представить себе что-то другое под этим понятием. Таким образом, они находятся на основе закона причинности, который гласит, что каждый опыт должен иметь свою причину. Но если не играть только с этим принципом, а отнестись к нему серьезно, то неизбежно требование, чтобы энергии действительно существовали или были выражением чего-то реально существующего, ибо только то, что действительно существует, может быть причиной. Таким образом, даже с теорией энергии мы не можем избежать старого критического вопроса о том, признает ли наша наука истину или нет. Можно, конечно, отмахнуться от этого вопроса чисто скептически, сказав себе, что, если это только полезно, мы остаемся совершенно равнодушными к тому, сколько постоянных источников ошибок фальсифицируют все наше мировоззрение. Но эта абсолютная сдержанность всегда остается для нас неестественной, потому что наука работает с законом причинности. То, что наша наука так чрезвычайно полезна и что она помогает нам правильно ожидать опыт, должно иметь и причину, causa, и очевидно, что искать эту причину следует в определенном соответствии между нашими гипотезами и реальным миром. Если бы натурфилософия допускала такой эпистемологический оптимизм, она бы приблизилась к прагматизму. В любом случае, эпистемология, настаивающая на том, что мы никак не можем ничего знать о вещи-в-себе, не очень полезна; она займет весьма почетное, но очень одинокое положение по отношению к остальной науке. Сам Кант не мог смириться с чистым скептицизмом, но считал, что с помощью практического разума он может заглянуть в обетованную землю истинной реальности. Считается, что это очень скромно со стороны человеческой науки – признать, что мы ничего не распознаем правильно, но, несомненно, еще более скромно сказать, что это утверждение также не может быть доказано. Плодотворной и полезной является не та эпистемология, которая описывает время и пространство, причинность и множественность и т. д. как человеческие источники ошибок как таковые, а только та, которая стремится раскрыть действительно вероятные, а не абстрактно возможные источники ошибок в нашем мировоззрении. Только когда задача эпистемологической критики осмысляется таким образом, она может стать пролегоменом, основанием для будущей метафизики.
В первом смысле[7 - По этому поводу см. мое сочинение «Zur psychologischen Analyse der Welt», Berlin 1900, и в целом статью «Haben die Naturgesetze Wirklichkeit», 1907.], возможно, будет правильным рассматривать качества органов чувств как чисто человечески обусловленные и, таким образом, в определенной степени как источники ошибок, которые формируют нашу сенсорную картину мира в чисто символическую. Но рассматривать закон причинности и причинное ожидание как источник ошибки в том же смысле для нас невозможно, да и не имело бы смысла, поскольку идея реальности, которую мы хотели бы очистить, разбилась бы, как от взрыва, и распалась бы на чистое небытие. Итак, несмотря на Канта и всю критику, мы, современные люди, верим в объективную силу закона причинности: каждое следствие имеет свою причину. Из этого вытекает и самый первый принцип метафизики, который может быть сформирован подобным образом: Сколько разнообразия в опыте, столько и в объективной, метафизической реальности. Это также означает, что рассматривать время как субъективно обусловленную, человеческую форму восприятия можно лишь с очень сильными оговорками. Конечно, если кто-то скажет, что наша концепция временной последовательности насквозь отклоняется от того, чем объективно является временная последовательность, и что она представляет ее лишь чисто символически (подобно тому как зеленый цвет является лишь человеческим символом для вибрации эфира), то возможность такой концепции не может быть опровергнута, и наука также может с радостью признать ее, но только при условии, что закон причинности не будет поколеблен. Таким образом, каждое положительное различие, которое мы встречаем в опыте, должно соответствовать реальному различию в объективной реальности, или, другими словами:
В дополнение к нашему субъективно обусловленному образу времени должно существовать и иметь реальность какое-то объективное время.
Из сказанного легко понять, что категория множественности, по выражению Канта, применима и к объективной, трансцендентной реальности и не может, как это было бы принято в восточной философии, пониматься как человеческое искажение трансцендентного божественного всеединства.
В этом вопросе мастер критики остался в противоречии с самим собой. С одной стороны, он учит, что множественность является априорной категорией понимания и в этом отношении стоит в одном ряду с субъективными понятиями пространства и времени, но с другой стороны, он ясно дает понять, что понимает истинные реальности, ноумены, как мысли Бога. Здесь, таким образом, в трансцендентный мир вкрадывается категория множественности, или, другими словами, старая восточная, а затем и плотиновская проблема соотношения божественного всеединства и множественности мира остается острой и нерешенной.
Мы, современные люди, однако, не хотим принимать никакие реальности, даже трансцендентные, без множественности. Здесь мы придерживаемся фразы Гербарта: «Сколько видимости, столько и предположений о бытии» и интерпретируем ее, добавляя: «Сколько различий в опыте, столько и в объективной реальности».
Это, наконец, дает правильную точку зрения на вопрос об объективности пространства. Наше представление о пространстве может быть лишь символическим образом реальности, но должно существовать и объективное пространство, в том смысле, что система различий, составляющая наше представление о пространстве, основана на системе трансцендентальных различий.
Этими предложениями я вышел за рамки описания натурфилософии и прагматизма, чтобы указать направление, в котором эти две философские системы должны быть дополнены, чтобы прийти к согласию с совершенно современной и настолько безупречной, насколько это возможно, эпистемологией.
Прагматики не должны опираться на точку зрения Вайссманна, согласно которой все наши символы обманчивы, но тем не менее счастливы, поскольку они полезны. Напротив, опираясь на закон причинности, они должны задаться вопросом, почему вся наша наука полезна, и попытаться выяснить, в какой степени источники истины действуют в нашем знании наряду с источниками ошибок. И натурфилософия не должна уклоняться от вопроса о сущности вещи; весьма забавно видеть, как Оствальд справляется с понятием вещи. По его мнению, вещь – это скорее грамматическое, чем эпистемологическое вспомогательное понятие, изобретение для обеспечения предметной формы, и на самом деле она должна обозначать лишь ограниченный участок ряда переживаний. Очевидно, что это лишь недоразумение, вызванное его натурфилософией, поскольку вещь на самом деле никогда не является опытом, а опыт как таковой никогда не был вещью. После того как Оствальд с помощью своего артистизма избежал понятия вещи, он немедленно и неизбежно вновь сталкивается с философским понятием объекта, сначала в форме понятия субстанции. Он нападает на нее, как храбрый рыцарь, и несколькими ударами разрушает ее. По существу, у него есть только одно возражение против объекта, а именно: понятие субстанции часто соблазняет нас видеть в вещи только постоянную вещь (со многими свойствами), тогда как на самом деле, возможно, все свойства были бы одинаково независимыми вещами. Вся эта линия мысли приводит к тому, что он упускает из виду различие между различными энергиями и энергетическими системами в отношении изменчивости. Пространство и время кажутся ему вовсе не энергиями, а причинами, которые не могут изменяться. Даже масса, хотя Оствальд прилагает все усилия, чтобы привести ее в соответствие с другими формами энергии, не может быть преобразована в другие формы энергии. Я считаю, что метафизика натурфилософии, которая, безусловно, возможна, должна была бы начинаться именно здесь, с различия в изменчивости энергетических систем. Демокрит и старый материализм уже начали здесь: Одно и то же вино вчера казалось мне кислым, а сегодня – сладким, в зависимости от моего состояния здоровья и ума. Свойства, изменчивость которых зависит только от меня, субъективны, а не объективны. Поэтому чисто субъективные изменения предполагают объективно неизменную вещь, но чисто объективные изменения также включают в себя неизменную вещь. Натурфилософия говорит нам, что неизменное в мире – это сумма энергии; но это всего лишь число, символическое понятие, и метафизик не может не применить закон причинности и здесь и не спросить себя: почему сумма энергии неизменна? Очевидно, только потому, что существует предел изменений. Таким образом, энергия – это субстанция, и ограниченное изменение – одно из ее свойств. Именно эта субстанция не может быть увеличена или уменьшена. Закон постоянства суммы – это не трансцендентная платоновская идея, воздействующая на мир подобно магической формуле, а всего лишь указание на вышеупомянутые свойства мировой субстанции.
Этими несколькими словами я хочу лишь указать на то, что и прагматизм, и натурфилософия содержат стороны, благодаря которым они указывают за пределы скептицизма Канта и на объективную метафизику.
LITERATUR: Kristian Birch-Reichenwald Aars, Energielehre und Pragmatismus, Bericht ?ber den III. Internationalen Kongress f?r Philosophie, hg. von Theodor Elsenhans, Heidelberg 1909
Вильгельм Оствальд (1853—1932)
Цель и ценность
Сегодня часто утверждают, что существует фундаментальное различие между наукой о природе и наукой о цели и ценности. Концепция цели и ценности чужда первой, поскольку она лишь фиксирует то, что есть, но не определяет то, что должно быть.
Применительно к области неорганического естествознания, от логики до химии, эта точка зрения, несомненно, верна. Но как только речь заходит о явлениях жизни, цели и задачи, ценность и вред выходят на первый план настолько явно, что даже самое поверхностное рассмотрение не может обойти их вниманием. И даже если попытаться интерпретировать возникновение целей как естественный процесс в смысле, например, Дарвина, это, разумеется, не отрицает существования целей; ведь что может быть более ясным признанием существования вещи в науке, чем попытка объяснить ее?
Из того, что понятие цели и ценности сразу же появляется в биологии, следует вывод, что оно тесно связано с жизнью и обусловлено ее особенностями. Фактически, это понятие сохраняется во всех высших областях, которые следуют за биологией, в психологии, а также в самых разных отраслях свободной и прикладной науки о культуре; более того, его значение возрастает по мере того, как мы поднимаемся по этой лестнице. Таким образом, жизнь и цель должны быть связаны, и тем более, чем выше формы жизни.
Таким образом, и в области неорганического Шопенгауэр затрудняется доказать «волю в природе» и не выходит за рамки определенного символизма, который можно ценить высоко или низко в зависимости от личного настроения. С другой стороны, ему легко продемонстрировать всестороннюю активность целей и ценностей в области жизни и тем самым доказать волю как основное понятие всей жизнедеятельности. Объективная концепция, которую он дает понятию воли, на самом деле является доказательством целей, в которых желаемое ценное отделено от отвергаемого или противоположного жизни.
Причина этой связи нам хорошо известна со времен великого поворота в биологии во второй половине прошлого века. Мы поняли, что могут существовать только те живые существа, которые организованы консервативным образом. Нам нет нужды вдаваться в нынешние споры о том, какими средствами создается и поддерживается эта консервативная организация. Нам достаточно осознать ту элементарную истину, что живое существо, которое не делает или не может делать то, что необходимо для сохранения его существования (как индивидуального, так и национального), которое не знает или не может избежать того, что вредит или разрушает его существование, не может иметь постоянного существования, даже если оно должно было прийти к временному существованию в силу тех или иных обстоятельств. В этом смысле целенаправленное – синоним сохранения, и вопрос приобретает форму: как живое существо поддерживает себя?