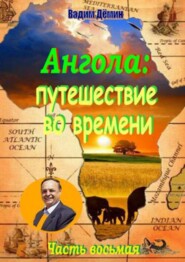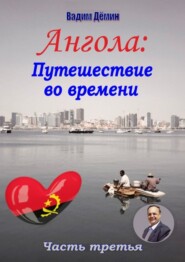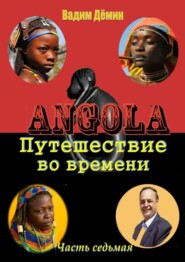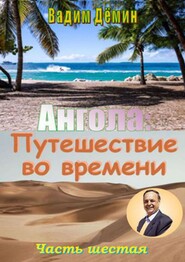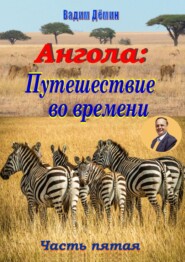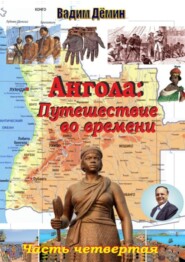По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По следу «Серого». Автобиографическая повесть (книга первая)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он, тем не менее, подошел к столу, взял «по-свойски» кусок хлеба, другой пятерней сгреб несколько картофелин, опустил все это в широченные карманы брюк, потом ополовинил тарелку с блинами и скомандовал:
– Догоняй!
Я только раскрыл рот от такого нахальства и самоуправства.
Стало ясно: завтракать мне сегодня не придется.
В этом он был весь – неугомонный, невозмутимый, неунывающий Венька – мой закадычный друг. Именно поэтому я никогда на него не обижался, потому что знал, что в нем нет ни капельки, даже капелюшечки злобы, хитрости, жадности. Он ради друга готов был отдать последнее. Именно поэтому я прощал ему все его «прегрешения».
– А кушать-то? – всплеснула только руками нам вслед выглянувшая из-за кухонной занавески мама.
– Ой! Здрасте, теть Ань! – обернулся на ходу Венька. – Я Вас не заметил! Спасибо! Некогда нам! Спешим!
– Ну погодите, я вам хоть с собой соберу.
Я ухмыльнулся: «Он уже все собрал!»
Завязав в узелок оставшуюся картошку, блины, несколько луковиц, хлеб, она украдкой от отца (моим братьям было три года и пятнадцать лет соответственно, а сестрам – 9 месяцев, 4,5 года и 8 лет, и они нуждались в молоке куда больше, чем я) сунула мне в карман еще и бутылку молока.
Удивительной женщиной была моя мама. За всю свою жизнь я ни разу не слышал, чтобы она повысила на кого – нибудь голос. Она-то и сердиться не умела. Для каждого из нас в ее сердце находилось столько теплоты и ласки, что никто не вправе был обижаться на нее за что-либо. Никто из детей не был обделен ее любовью и нежностью. Наоборот, каждый из нас думал, что именно его мама любит больше всех.
Всем нам, а потом и всем своим внукам она придумывала ласкательно-уменьшительные прозвища: «Сахарный», «Золотяк», «Лисичка», «Медовый» и пр., которых мы стеснялись в детстве, но с теплотой, благодарностью и ностальгией вспоминали о них в зрелые годы.
Отправляя меня на работу, мама знала, что мне придется растянуть свой нехитрый завтрак на целый день, поэтому она и дала мне еще в придачу эту бутылку молока – я для нее оставался ребенком. Взрослым, но ребенком. Ее ребенком. Поэтому она отдала его мне, тем самым проявляя ко мне величайшую материнскую жалость и сострадание – меня ждал тяжелый физический труд.
Пока шли по селу, Венька мне все уши «прожужжал» – всё «воспитывал».
Он был старше меня всего на два месяца, но тем не менее, это обстоятельство, по его мнению, «давало ему право» командовать мню, поэтому при каждом удобном случае он старался подчеркнуть свое «старшинство». Вот и сейчас беспрестанно бубнил:
– Завтра ждать не буду! Каждый день одно и то же! Спишь много, сурок!
Я знал, что сейчас с ним спорить бесполезно. Пусть выговорится. Это ему заменяло утреннюю эмоциональную зарядку. Или, наоборот, разрядку? Кто его знает? Но только после нее у моего друга повышалось настроение, он начинал шутить, петь. А что такое шутка в пути? От нее и дорога становилась короче, и идти легче.
Ребят мы догнали почти на выходе из деревни. Девчата уже запели песню, которую разносил по округе легкий летний ветерок. Около девяти часов утра мы были уже в селе Михайловка.
С самого начала строительства, как я уже говорил, мы разбились на группы-бригады. В нашей, кроме всех прочих ребят, были мои двоюродные братья – Виктор Дёмин и Виктор Статейкин.
Работали мы ударно, за что нас часто премировали: то куском сала, то отрезом материи или пшеницей.
В бригаде с первого дня организовали социалистическое соревнование, которое в ту пору формальным назвать никак было нельзя, потому что оно проходило живо, активно и без всякой заорганизованности. А главное, инициатива исходила именно от нас, а не от руководства стройки.
Если вспомнить, какое это было время – бушующее, зажигательное, то можно представить, как нам хотелось тогда подражать героям труда, инициаторам соревнования, застрельщикам всего нового, передового в стране.
Перед войной особенно большое развитие получило стахановское движение – этот массовый почин новаторов производства. В него включились передовые рабочие, колхозники, инженерно-технические работники. Главной его целью являлось повышение производительности труда на базе освоения новой техники.
Возникло оно как новый этап социалистического соревнования. Большинство стахановцев вышли из числа ударников. Но, если главным принципом ударничества было «перевыполнение производственной нормы путем интенсификации труда и внедрения простейших элементов его научной организации», то стахановское движение предполагало освоение новой техники, ее изучение и максимальное использование в труде».
В декабре 1935 года даже состоялся специальный Пленум ЦК ВКП (б), на котором обсуждались вопросы развития промышленности и транспорта в связи со стахановским движением.
В резолюции Пленума подчеркивалось: «Стахановское движение означает организацию труда по-новому, рационализацию технологических процессов, правильное разделение труда в производстве, освобождение квалифицированных рабочих от второстепенной, подготовительной работы, лучшую организацию рабочего места, обеспечение быстрого роста производительности труда, обеспечение роста заработной платы рабочих и служащих…»
Когда проходил Пленум, мне было всего 11 лет, но я хорошо помню, какая развернулась работа по реализации его решений в последующие годы. У нас в техникуме ни одно собрание не обходилось без призыва работать и учиться по-стахановски.
В соответствии с их решениями была организована широкая сеть производственно-технического обучения: для передовиков создавались курсы мастеров социалистического труда; проводились стахановские пятидневки, декады, месячники; создавались стахановские бригады, участки, цеха.
Кое-что из этого опыта решили применить на строительстве автодороги и мы.
Конечно, назвать свою бригаду стахановской было бы слишком громко, но некоторые элементы стахановского движения мы все же постарались использовать.
Например, взяли на вооружение такие его методы, как совмещение профессий, освоение смежных специальностей, скоростную технологию строительства.
Рождались и развивались почины «двухсотников» – две и более нормы за день. Многие из нас стремились к тому, чтобы их называли «двухсотниками». Но без знаний, прочных навыков, конечно, передовиком не станешь. Поэтому меня все чаще донимали ребята с расспросами:
– Послушай, Николай, ты почти дипломированный специалист. Предложи что-нибудь дельное! Наверняка, знаешь, как можно повысить выработку?
– Во-первых, я учился не в автодорожном, а в путейско-строительном техникуме, – пытался отговориться я. – Во-вторых, я – несостоявшийся специалист. И в-третьих…
Мне не дали договорить:
– Ладно, не скромничай, путейско- или авто – не в этом суть, насколько мы понимаем, строят везде одинаково.
Что тут говорить? Для них все едино. В их понятии дорога, неважно, какая она – шоссейная или железнодорожное полотно – она и есть дорога, в самом широком смысле. И для того, чтобы переубедить моих друзей, мне следовало бы вначале прочесть им краткий вводный курс лекций по теории и технологии строительства путей, но мы обошлись без этого «ликбеза». Тем более что ни времени, ни желания этого делать у меня не было.
И все-таки в чем-то они были правы.
Технология строительства «подушки» для автодороги и железной дороги, действительно, отдаленно, но были похожи. Правда, сходство было мизерным, но было.
И, если вспомнить то, чему меня научили за три года в техникуме, то можно было извлечь из этого пользу.
Основными видами работ при строительстве железной дороги, как известно, являются: возведение земляного полотна и искусственных сооружений, укладка путей. Такое же земляное полотно устраивают строители и при прокладке автодороги. Пожалуй, в этом и заключается главное сходство. Далее технологии расходятся.
На лекциях и практических занятиях в техникуме нам часто повторяли, что наиболее прогрессивным методом дорожно-строительных работ является поточный, при котором все работы на отдельных участках одинаковой длины ведутся специализированными отрядами, бригадами, движущимися вдоль полотна – одна за другой в определенной последовательности. Длина участка в этом случае колеблется от 200 до 600 метров.
– А что, если этот метод взять на вооружение и нам? – предложил я ребятам. – Но, при условии, что мы не будем вводить узкой специализации, и подготовительные работы – очистку будущей трассы от леса, кустарника, камней будем делать сообща, как наиболее трудоемкий и длительный процесс, а далее начнется вся «специализация». Но опять же, при условии, что все работы будем проводить по очереди: сегодня одна группа идет впереди, завтра – вторая, за ней – третья. Как у лыжников – лидер будет постоянно меняться, так как впереди идущему достанется наиболее трудный участок. Вот и все. Ну, как?
– Как все гениальное просто! – театрально воскликнул Виктор Статейкин. – Слушай, тебе не лопатой работать надо, а головой. Она у тебя «варит»!
– Все, с завтрашнего дня и начнем. Пока наш план «обкатается», глядишь, там и вырвем несколько дней в запас.
Но никто из нас не знал, что не завтра, а уже сегодня, 22 июня 1941 года нам так и не удастся претворить намеченное в жизнь…
II. Война
…22 июня 1941г. на строительстве автодороги проводился всеобщий воскресник.
Стоял ясный, безоблачный день. Мы работали на участке дороги от села Рождественский Майдан до села Мотовилово, протяженностью 17 км. Делали просеку: валили лес, корчевали пни, делали насыпь. Маршрут проходил через Волчиху, Волчихинский Майдан, Криушу[9 - Сегодня через Криушу, Волчихинский и Рождественский Майдан проходит трасса Р158 – автомобильная дорога федерального значения Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов.Строительство автомобильной дороги Нижний Новгород-Саратов началось в 1934 г. В 1969—1973 годах произведена реконструкция дороги с уширением проезжей части до 7 м, с укладкой асфальтобетона и полной заменой деревянных искусственных сооружений на железобетонные. В последующие годы производилось уширение проезжей части на некоторых участках до 10 м и улучшение плана и продольного профиля автодороги. Материал из Википедии – свободной энциклопедии]Ломовского сельсовета.
Только что закончился небольшой перекур, во время которого мы постановили: оставшуюся часть рабочего времени посвятить приготовлениям к осуществлению завтрашних планов.