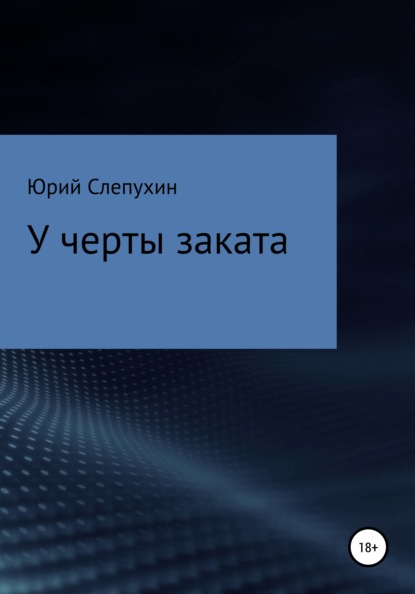По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
У черты заката
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Центр большой, сеньорита, – не оборачиваясь, сказал он лениво, включая скорость.
– Ну, давайте на Пласа-де-Майо…
Выйдя из такси на площади, Беба несколько минут постояла в тени пальм, рассеянно глядя на древнего старичка в канотье, кормящего голубей возле входа в метро, на черные лимузины с номерами дипломатического корпуса, выстроившиеся перед Розовым домом, на девушек в темных очках и узких синих брюках, проносящихся мимо на стрекочущих белых мотороллерах. У нее самой не было ни «кадиллака», ни даже мотороллера, но все равно смотреть на это было приятно. Истая горожанка, родившаяся и выросшая в столице, она любила пеструю сутолоку центра, лихорадочный темп столичной жизни, метровые буквы анонсов нал входами в кинематографы, столики на тротуарах и стиснутые многоэтажными фасадами потоки автомобилей. Даже убийственный в летние дни воздух Буэнос-Айреса – раскаленная смесь пыли, шума и бензинового перегара, – даже этот воздух был ей приятен. Он был ее родным воздухом, и она не променяла бы его ни на какой другой.
Постояв под пальмой, Беба пересекла площадь и села за мраморный столик под навесом кафе. Мосо, изнывающий от жары в своем наглухо застегнутом белом кителе, принес ей стаканчик гренадина и тарелочку с колотым льдом. Беба помешала соломинкой рубиновую жидкость и, сделав глоток, снова задумалась.
Полтора года назад – после разрыва с маэстро Оливьери – она попыталась «переменить климат». Выбрала самый маленький, самый стопроцентно провинциальный городок в провинции Мендоса: сутки езды от столицы, семь тысяч жителей, один отель, два кафе, церковь Сан-Игнасио де Лойола и один кинематограф, действующий по субботам и по воскресеньям, – не городок, а сплошная идиллия.
Возможность устроиться была – если не куда-нибудь в бюро, то хотя бы продавщицей. Ее взяли бы с распростертыми объятиями – она сразу поняла это по тому фурору, который произвели на вокзале и в отеле ее туфли на итальянском каблучке (такие в то время были новостью даже для столицы), ее дорожный костюм из шотландского твида и мягкий, кремовой кожи чемодан на «молниях». Конечно, ее взяли бы, даже если бы для этого потребовалось уволить без предупреждения какую-нибудь провинциалочку, проработавшую на своем месте не один год. Более того, она могла бы в одну неделю расстроить любую партию и еще через месяц выйти замуж за какого-нибудь сына лавочника или скотовода. Но разве это была бы жизнь?
Она видела, как там развлекалась молодежь. Одноэтажный отель стоял на площади, напротив церкви. Площадь крошечная – сотня шагов в диаметре, середину занимает цветничок, вокруг него тротуар и скамейки. Днем на ней не увидишь ни души, зато с закатом солнца начинается традиционная провинциальная карусель. Молодые люди – местные донжуаны – сидят на скамейках, а мимо них прогуливаются сеньориты на выданье – группками по две, по три. Донжуаны покуривают сигаретки, рассказывают друг другу мужские анекдоты и окидывают сеньорит оценивающими взглядами прожженных сердцеедов; те шепчутся между собой и неестественно громко смеются. В десять часов сеньориты расходятся по родительским домам, а молодые люди заканчивают вечер либо в баре отеля, либо в одном из двух кафе – «Альгам-бра» или «Дос Чинос».
Она терпела все это двое суток, а на третий день с утра отправилась на вокзал и купила обратный билет. Поезд уходил в полночь; в последний вечер своего пребывания в идиллическом городке она надела черный свитер и свои самые узкие брюки и вышла на площадь, усевшись на свободную скамейку, как раз под фонарем. На этот раз карусель пошла обратным ходом: сеньориты, оскорбленные в своих лучших чувствах, демонстративно покинули площадь, а донжуаны весь вечер ходили по кругу и не отрывали глаз от скамейки под фонарем, как солдаты на параде, проходящие мимо трибуны президента Республики. Беба сидела с мечтательным видом, заложив ногу на ногу, и покуривала «Лаки-Страйк».
Вернувшись в Буэнос-Айрес, она уже знала, что никогда не сумеет отказаться от всего того, что давала ей ее профессия, – от известной свободы, от возможности хорошо одеваться, вести столичный образ жизни, иметь поклонников. Веселая и циничная среда художников и скульпторов показалась ей родной, словно она в ней и родилась и выросла. Через шесть месяцев один из ее приятелей по кафе «Аполо», ташист Маранья, познакомил ее со своим другом Джонни Ферраро, сыном фабриканта велосипедов. У Джонни была отдельная холостяцкая квартирка в Палермо, собственный «крайслер» и громадная коллекция джазовых пластинок…
Беба вздохнула и потянула через соломинку свой гренадин, потом достала из сумочки сигареты и зажигалку. Конечно, говорить о невинности не приходится. Чего только не наслышишься за три года работы натурщицей… и чего только не насмотришься. Но почему, почему сейчас она восприняла это именно так? Скажи это ей кто-нибудь другой – она просто дала бы ему по физиономии и забыла бы о нем через полчаса. Но Херардо… Как мог сказать это именно он, Херардо?
Как мог он это сказать, и как может она переживать это таким образом? Кто для нее этот Бюиссонье? Никто! Конечно, он был ей очень симпатичен, симпатичен с первого взгляда. Такой худой и нескладный, с растрепанной светлой шевелюрой, широко расставленными глазами и большим насмешливым ртом. Конечно, она чувствовала к нему доверие. Но после истории с Джонни Ферраро она считала себя достаточно застрахованной от того, чтобы так переживать потерю этого самого доверия. Правда, чем доверие сильнее, тем больнее воспринимается обман. Но, санта Мария, разве у нее были основания питать к Бюиссонье какое-то особое доверие, какие-то особые чувства?..
Пожилой господин с фатовскими усиками, в щегольски сдвинутой набекрень дорогой светлой шляпе, подошел к ее столику.
– С вашего позволения, сеньорита, – сказал он вкрадчиво-наглым тоном, берясь за спинку свободного кресла.
Беба бросила на него ледяной взгляд.
– Не видите других столиков? Тогда побывайте у окулиста, в ваши годы это не лишне.
– О-о, роза, оказывается, с шипами, – не смутился тот и сел поодаль, подозвав мосо движением пальца.
На башне муниципального совета часы пробили половину второго. Беба машинально сверила свои часики. Только половина второго… Столько времени впереди, и нечем его убить! Сегодня будет долгий и пустой день, и завтра, и послезавтра, и всегда. Неужели это действительно навсегда – жить вот так, неизвестно для чего, вечно выслушивать одни и те же приставания и комплименты и все время обманываться в людях… Именно в тех, кто вдруг покажется ей особым, ни на кого не похожим, способным придать ее жизни какой-то смысл…
Разноцветные нарядные автомобили один за другим проносились мимо с тем характерным шипением, которое появляется в слишком жаркие дни, когда размягченный асфальт липнет к покрышкам. Лед в тарелочке давно растаял, муха пристроилась на краю стакана с согревшимся гренадином. За соседним столиком господин в светлой шляпе развалился в своем плетеном кресле, закинув ногу за ногу, и взглядом знатока рассматривал рыжую девушку; он твердо решил дождаться ее ухода, чтобы пройтись за ней следом квартал-другой и получить, таким образом, возможность в полной мере оценить ее сложение. Пикантная штучка, черт возьми, ему будет о чем рассказать в клубе сегодня вечером…
Беба закурила сигаретку и тут же ее бросила: в такую жару курить не тянет. Может быть, это все только от жары – и эта тоска, и эта путаница в голове, и все эти непривычные и ненужные мысли о бессмысленности жизни… Она ведь никогда о таких вещах не думала. Или это приходит с возрастом? Хотя – возраст, какой там еще возраст, ей ведь не тридцать лет! У нее впереди вся молодость. Да, но что она ей дает, эта ее молодость? А в будущем?
Удушливый зной пылал над городом, плавя асфальт и накаляя стекло и бетон. Огибая площадь, бесконечным потоком неслись мимо сверкающие приземистые автомобили, оставляя за собой голубоватый бензиновый дымок. Стрелки старинных часов на башне муниципального совета подходили к двум. Рыжеволосая девушка продолжала сидеть перед стаканом гренадина, красивая, нарядно одетая, тщательно причесанная по последней моде, – и ее сердце все больше сжималось под гнетом непривычной тоски и необъяснимого страха.
8
Сыновья никогда не приносили донье Марии Ларральде ничего, кроме огорчений. Казалось бы, два взрослых сына могли бы стать хорошей опорой для бедной вдовы, будь это нормальные сыновья, как у людей. Старший, Пабло, вообще покинул дом – в сорок третьем году удрал в Бразилию и поступил добровольцем в войска союзников. Правда, семья Ларральде прославилась на всю улицу, но донья Мария этой славой не упивалась. Пабло дрался на итальянском фронте, встретил там какую-то девчонку и после перемирия с ней обвенчался. Сейчас он работает механиком в Турине и все никак не может накопить денег даже на то, чтобы приехать в гости к родной матери. Просто стыд, своих собственных внуков она знает лишь по фотографиям! Только Пабло мог придумать такую глупость – сменить Америку на Европу в такое время, когда все разумные люди поступают наоборот.
А младший, Хиль? Скольких трудов стоило ей, с ее вдовьей пенсией, дать ему образование, дотащить его до университета! Разве он это понимает? Правда, учиться он учится; на первых трех курсах – когда было полегче – он даже учился и работал, дважды в месяц честно принося матери всю получку, но зато без него не обходится ни одна студенческая забастовка, ни одна драка. Если сосчитать, сколько дней провел он в тюрьме за эти шесть лет… Вот и сейчас – человеку остался месяц до градуации[7 - Градуация – получение университетского диплома (в Латинской Америке).], а он снова сел. А если его теперь исключат? Нет, это горе, а не сыновья.
Правда, на этот раз донья Мария волновалась больше по привычке: она побывала у доньи Марты, сынок которой тоже попался шестнадцатого февраля, и та сказала ей, что всех задержанных по этому делу должны выпустить по ходатайству поручившейся за них университетской ассоциации.
Действительно, утром двадцать третьего, в карнавальную субботу, к донье Марии явилась незнакомая сеньорита и сообщила, что коллега Ларральде будет освобожден сегодня после обеда.
На этот раз донья Мария решила обойтись без торжественной встречи. Довольно, пусть Эрменехильдо наконец узнает, что она думает по поводу его образа жизни. Приготовления ко встрече блудного сына ограничились куском мяса, выбранным, правда, с особым вниманием, и двумя поставленными на лед бутылками пива.
Блудный сын явился в пять часов – в изжеванном костюме, от которого разило дезинфекцией, небритый и голодный как волк, но, как всегда, неунывающий. Донья Мария всплакнула и приготовилась долго говорить о сыновней неблагодарности, но Хиль схватил ее в объятья, покружил по комнате, опрокидывая стулья, и отнес на кухню. Поняв намек, донья Мария решила отложить объяснения и принялась за стряпню.
Полчаса Хиль отмывался под самодельным душем, приплясывая на деревянной решетке и во все горло распевая арагонскую хоту. Потом он сидел за столом, чистенький и выбритый, уписывал чурраско, запивая его пивом, и, с набитым ртом, рассказывал матери, как они портили кровь тюремщикам.
– Тебе все весело, – укоризненно сказала донья Мария, втайне любуясь сыном, – а каково мне? Костюм теперь придется отдавать в чистку, опять лишний расход. Меньше пятидесяти этот японец не возьмет…
– Что такое пятьдесят песо? – пожал плечами Хиль. – Скоро ко мне потекут гонорары!
Он сделал обеими руками загребущий жест и задумался.
– Мама, газета за шестнадцатое у тебя сохранилась, вечерняя?
– Хочешь полюбоваться на свое имя? – спросила донья Мария, доставая с полки газету. – Мне уже стыдно смотреть в глаза соседям!
– Слава – вещь утомительная, – согласился сын. – А ну-ка…
Он развернул перед собой газету, продолжая с аппетитом жевать. Ага, вот оно: «Новые беспорядки на факультете медицины. Сегодня, в послеобеденные часы, группа студентов-медиков, подстрекаемая левыми элементами, произвела крупный беспорядок в здании своего факультета, пытаясь…» Ну, это пропустим – что мы пытались сделать, это мы и без вас знаем. Так… «…Вынуждены были применить силу. При очистке здания от ворвавшихся туда нарушителей порядка оказали сопротивление и были задержаны федеральной полицией следующие лица…» О, дьявол, сколько их здесь. Сначала, конечно, девочки, – ясно, наша традиционная галантность, дорогу дамам… Сеньорита Ана Мария Роблес, год рождения 1933, проживающая по улице Лавальеха 1270, Оливос. Сеньорита Мерседес Аларкон, 1933, Пастер 416. Сеньорита Хильдегард Кронберг – а, это, наверное, та немочка с третьего курса… Сеньорита Глэдис Каталина Москардо – верно, была такая, эта и в самом деле дралась, даже очки потеряла. Сеньорита Сильвия Аморетти, 1936, – наверняка какая-то первокурсница, сосунок, ей-то и вовсе не стоило мешаться. Ага, вот – сеньорита Элена Монтеро, 1933, Артигас 628, Линьерс. Где же это в Линьерсе улица Артигас?
Хиль заботливо свернул газету и сунул в карман.
– Ешь, у тебя все простынет, – сказала донья Мария.
– Ем, ем. От Пабло ничего нового?
– Получила позавчера. Пишет, что трудно с работой.
– Пусть приезжает, чего ему там сидеть!
Донья Мария поджала губы.
– За Пабло думает теперь его жена, вот чего я боюсь.
– Ну, у него тоже есть голова на плечах.
– Ох, сынок, когда человек женится, про свою голову он забывает прежде всего…
– Ладно, я ему напишу сам, – важно сказал Хиль, допивая остатки пива. – Слушай, ты хорошо знаешь Линьерс? Где там улица Артигас?
– Артигас? – Донья Мария в раздумье покачала головой. – Не знаю, я в Линьерсе почти никогда и не бывала. Если хочешь, спрошу у соседей. Дон Хулио должен знать, – почтальоны знают все улицы.
– Не надо, я поищу по Пеусеру. – Хиль встал из-за стола и закурил. – Знаешь, я пойду вздремну, там почти не спал… Клопы жутко кусали – прямо тигры какие-то!
На следующее утро Хиль еще раз позвонил своей новой знакомой и опять ее не застал. Он уже знал, что сеньорита Монтеро живет в меблированных комнатах, но явиться без предварительного ее согласия не решался и отложил дело до телефонного разговора.
Донья Мария ушла к мессе, а он повалялся еще на кровати, наслаждаясь свободой, перечитал газеты за восемь дней и решил съездить в клуб университетской ассоциации – повидать знакомых и поделиться тюремными впечатлениями.
По случаю первого дня карнавала на улицах было шумно. Несмотря на расклеенный всюду полицейский эдикт, запрещавший употребление ракет и петард, на каждом перекрестке трещала и взрывалась какая-то дрянь и улицы пахли порохом, как после хорошего сражения. С балконов и из дверей прохожих окатывали водой; Хиль сначала обходил опасные места, оберегая свой последний костюм, но в конце концов – за квартал до спасительной остановки автобуса – какая-то каналья подкралась к нему сзади и выплеснула за шиворот целую кружку. Тогда он вошел во вкус и, захватив врасплох девушку, вытащившую на улицу полное ведро, целиком вывернул его ей же на голову. Та, облепленная мокрым платьем, с визгом убежала, и Хиль сел в автобус, чувствуя себя отомщенным.