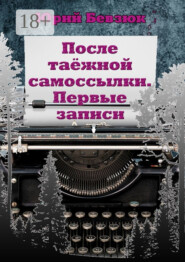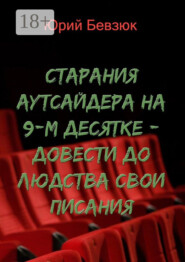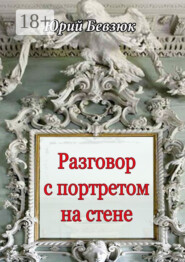По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Времён связующая мысль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
хвалятся подлой приспособляемостью…
с.148 …Для меня всегда была важна практическая цель. В.И.Ленин
К этим семи всего словам самый обширный мой комментарий… Всего одно извлек из Ленина я это краткое высказыванье (не афоризм даже, – а Федоренко сборник Лениным, в духе того времени застойно-схоластного, – весьма густо приправлен) … Зато много своего добавляю…
Мало людей, что ставят цели непрактичные… А «слабый пол» по необходимости весь практичен почти… Однако, Ленин ставил цели пусть и прагматичные, – но нечеловечески,гигантски великие! И только этим во все веки знаменит… Не прагматичностью… И – по Борису Слуцкому: «как вы и как я – человеком он был»… Настоящим, могу сказать я напоследок, – человеком…
Пройдя по жизни все этапы, кроме пока бессильной дряхлости (которой, может быть, еще и избавлюсь), достигнув, главное, сурово-бодрой – и сколько возможно бесстрастной! – старости, – могу возможно здраво о реальности рассуждать… Пока сильны мы – мы эгоистичны, – я разумею в основном мужчин (вот афоризм: пока сильны мы, – мы эгоистичны, особенно мужчины) ….. Я отрицал почти всё в советской действительности по той причине, что (мы) продолжали воевать и после войны, то есть не давали сильным жить в меру их сил, – и тем помочь жить лучше остальным!.. Я останавливался лишь перед ленинским величием: этот феномен, считал я, мне еще следует доизучить… точнее, доосмыслить… Весной 74-го я из партии, созданной Лениным, вышел по заявлению, – зане совсем утратила потенцию, – вышел, уже имея партстажа десять лет, – и двадцать лет почти – с 15-ти, – и в первые два года рьяного и искреннего, как «комсомольский бог» в школе, ей служения (кроме всех прочих бесплатных работ по созданию энтузиазма в крупнейшей в крае школе, – я, как-никак, бесплатно написал после 8-го и 9-го класса по больше сотни характеристик комсомольских выпускникам, – без коих в вузы не принимали: то есть брал на себя отчасти функцию «творца», время то такое их на восьмиклассника возлагало) … …Подавая в марте 74-го в Совгаванский горком заявление: прошу считать меня выбывшим из КПСС, поскольку по характеру работы не могу выполнять устав партии: регулярно платить членские взносы и посещать партсобрания, – я уже три года был промрабочим (штатным охотником) в Совгаванском госпромхозе, имея пару «красных» дипломов гуманитарных, и незаконченное высшее техническое «образование» впридачу (уже мог, например, рассчитать в контрольной работе конструкцию из ферм железнодорожного моста), – я придрался к формальности устава партии, высказать с политикой партии прямое несогласие опасаясь, – и все ж таки сильно рисковал: кегебисты всех в Совгавани знали, политработника (в комсомоле, в армии и самой партии) бывшего всех паче: могли бы к соболям, от сдачи ут`аенным, на транспорте придраться, – а это приравнивалось к валютным операциям, – и по законам тогдашним каралось строжайше… Кегебисты, позднее оказалось, меня даже молчаливо уважали: от своего беспартийного начальства сразу страдал: в совхоз под Хабаровск стали гонять, – а до того, как единственного в промхозяйстве члена партии, – не гоняли… Но это-то как раз в конечном счете и обернулось к благу, даже четвертым моим счастьем стало: из-за него могу вот на компутере писать; (здесь заодно и о пятом счастье – им явился… пожар второго этажа «дачи», четвертую мою библиотеку сгубивший, – зато к поэзии уже после 65-ти приобщивший)…
Подавая заявление из партии (и в прозе и в стихах давно всё в подробностях описал), имел на заднем плане еще принять в общественной жизни в меру сил своих участие, – если политика у нас все ж таки живее раскачается, – но мы предполагаем, а история располагает: она с желаньями одиночек не считается: аж на 11 лет и зим на охоте увяз, так затянулось мое таежное самоизгнание (зато теперь есть по конец жизни что вспоминать); тормозил бы еще годика три, кабы комуняки меня из тайги не выперли – за отказ капусту под Хабаровском по весне рассаживать, городских бездельников кормить дабы… До 82-го взятками шкурками норок улаживал (командировки отмечали и на все четыре стороны отпускали: в Биробиждане и потом в Теплом Озере я «отрывался» после весной 76-го развода по части «пола слабого»); а в 82-м уже кризис перманентный овощной у нас города за горло взял: стали партийцы считать командированных на «сельхозрабство» по головам: обнаружилось мое отсутствие, скандал: моя фамилия в средствах связи между Хабаровском и Совгаванью замелькала: втык отпустившему меня (о взятке, ясно, я умолчал) начальнику совхозного участка, – а мне из охотников вылетай… К великому для меня благу: успел на Чуркине в доме на снос, коего был домохозяин, в самый последний момент прописаться, – и теперь, живя круглый год на «даче», в «замке» из дикого камня, – комнатой в квартире городской в «улучшенной планировки» девятиэтажке располагаю, за кою родня мои дефициты в деньгах гасит, – и потому свои воспоминанья могу вот на компутере (почти лежа, от покоса остывая) довольно споро набирать…
А Ленина осмыслить – сполна и сразу! – смог я только соображаясь с развитием исторической ситуации, – заодно – что теперь важнее всего! – и Сталина. …В ноябре 91-го, когда объявил об отпуске цен за месяц предательски Егор Гайдар, внук славного большевика-писателя, – сразу мне все стало ясно! Всё для того на тот момент давно уж знал, всё оценивал здраво, – единственную «ошибочку» ментальную допускал: полагал, пусть циники, но люди знающие там на верхах во власти, – и, главное, – никак не предатели… Вот афоризм: цинизм никак не сочетается с патриотизмом!.. Не первый, однако, афоризм за это послеполуночное бдение… комарики к середине августа напоследок стервенеют… но паче мысли после четырехчасового сна галопом скачут, не дают дальше спать… разве только после шести – как отслушаю по радио час экономических новостей на 24-м телеканале, – как там проходит очередная кризисная волна…
…И сразу, как только Гайдар в конце ноября 91-го, объявил за месяц изменнически об отпуске цен, подрывом торговли в стране сознательным приверженцев-предателей обогащая, – в момент мне стала ясна сталинских репрессий оправданность! Тогда история не позволяла так бюрократии «отрываться»… Тремя «эс» (ССС) – слезы, сопли, слюни, – и собственные тридцатипятилетние стенания по тем репрессиям я обозвал: не было тогдаиного средства подлое «крапивное семя» в повиновении удержать… Как нет и теперь – но теперь ещепока терпит (тормозит – медлит) время… Тогда-то, в 91-го ноябре, я и оценил ленинское величие сполна, – и что Сталин был, как он сам не раз и говорил, действительно верный (пусть и жестокий, – но мягкосердный* тогда никак не смог бы выполнить вождя революции заветы!) Ленина последователь… Только когда, казалось бы, карьеристы-схоласты, словами (еще преждевременными) в июне 41-го Сталина, ленинское наследие вконец «просрали», – мне стало враз ясно: как раз этим потенция ленинского гения во продление человечества начинает обновляться – и будет усиливаться дальше! – … лет через двадцать (только вот сейчас такие времена начинаются) … Вот только сейчас, с 2008-го года начиная, наступает агония 500-отлетнего грабительского «капитала»**, – после ленинского удара страшного в 1917-м… Именно тогда весы жизни или смерти людства колебались, – и не брось тогда Ленин на чашу добра весь свой гений (и – подобно мифичному Христу – и всего себя!), – нельзя представить, насколько бы сейчас свирепели силы зла… В любом разе – не было бы нас…
*При вовсе не жестоком, чувствительном даже Робеспьере, – тоже головы еще как летели, – а будь он жестче чуть, – не погубил бы, может, великую Французскую революцию…
**Оставляю капиталу все его хозяйственные обязанности, – но забираю все политические «права» – жизнью и смертью ЧЕЛОВЕЧЕства распоряжаться!..
В союзники себе в оценке Ленина привлекаю… Сергея Есенина… Хотя он не дожил и до тридцати лет, – а я уже перевалил за семьдесят, – тем удивительней его в 25 историософская зрелость… и даже с моей в 70 в этом совпадение: вот это-то мудрость и есть… (Как и в других подобных случаях важнейших, я позволяю себе улучшить этот отзыв поэта-предшественника, – что, несомненно, он бы и сам сделал, доживи до моих лет; – называю поэтому ТАНДЕМ С ЕСЕНИНЫМ, – что-то вроде привода поэта прошлого к уровню современной точности):
«Монархия! Зловещий смрад! Веками жрали (у Есенина «шли пиры за пиром») – пир за пиром, власть уступал аристократ (у Есенина: «и продал власть» – Ю.Б.) промышленникам и банкирам. Мужик стонал (у Есенина «Народ стонал – но народ – это и трудящиеся, и угнетатели – Ю.Б.), и в эту жуть мир ждал его: приди, рассудь… (у Есенина: «страна ждала кого-нибудь» – Ю.Б.). …И он пришел – и волей мощной поставил мир на путь он должный (у Есенина: «он мощным словом, – но Ленин силен был не одним только словом – партией, им созданной, – по велению всей российской – и всемирной! – истории) повел нас всех к истокам новым»). …И вот он умер… Плач досаден. Сквозь славословья – голос бед (у Есенина: «Не славят музы голос бед» – Ю.Б.) Из огнегрохотных (у Есенина «меднолающих» – Ю.Б.) громадин салют последний даден, даден. Того, кто спас нас, – больше нет. Его уж нет, а те, кто вживе, а те, кого оставил он, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон… Для них не скажешь: «Л е н и н у м е р!» Их смерть к тоске не привела Еще суровей и угрюмей они творят его дела…»
Сергей Есенин, из поэмы «Гуляй-поле», 1924
Как видно, в этих строках не только верная современная оценка Ленина, – но и яркое свидетельство большого ума еще только 29-тилетнего поэта, провиденье им исторических неизбежностей вперед на десятилетия… И нет меры сожаления о его столь преждевременной смерти, – особенно при нынешнем переполнении массмедиа… лживо-пристрастно-неверными «задними мненьями» … после судьбоносных событий спустя… почти уж столетие… 5 ноября 2010 г.
Далее аж на 38-ми страницах не нашлось глазу ни на чем важном остановиться, но вот на 186-й странице:
Люди умирают для того, чтобы жило человечество В. Белинский
Не для того – а потому: без непрерывной череды рождений и смертей не мыслимо было бы развитие, которое вот на нас, существ мыслящих, – космоса отражение, – вывело материю вблизи от полного ее охлаждения – обездвижения, – которому жизнь и есть – материи сопротивление…
Жизнь есть сопротивление материи обездвиж`ению
Смерть – неизбежный результат рождения, без смерти не было бы жизнедвижения: смерть отрицает всякую божественность…
с.193 Смерть для человека – ничто, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, – а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Эпикур
Ничто, однако, нас, как это «ничто», – так в тоску не вгоняет, с детства начиная, как только смертность начинаем сознавать: тогда вот неизбежность эта, за много десятилетий до вероятной смерти, – особенно остро переживается и мистически-эгоистический протест вызывает; с движеньем лет, с взросленьем разума мы начинаем понимать: без смерти человечество не развивалось бы, не возник бы сам разум, – и переполнилась б тогда земля… И мало-помалу со смертью мы смиряемся – и о проклятой временами даже забываем… пока вплотную не притиснут к ней года; тогда тоска та злая вновь всплывает – как это в сон беспросыпный, без сновидений впасть?! (Года за два до семидесяти у меня, – а самая острая тоска лет в 37 впервые посещала). …Тогда единственно тем утешаемся: пока живем – как можно больше жизни дать, что после нас, надеемся, останется… Тем и свою, как только можно, жизнь продляем, – себя как следует трудиться в старости заставляя… чтобы костлявую подальше отогнать… Хотя и вероятность смерти повышается, – но как совсем уже не предаемся праздности, и всяким легкомысленным занятиям, – то снова о проклятой забываем… Ну, а когда таки совсем припрет косая, – уж не смогу, друзья, вам рассказать…
А афоризм Эпикура великий я бы так переложил:
Покуда жив ты – смерти нету, – а смерть пришла – тебя уж нет! С ней нет ранд`еву!.. (Но как отвлечься от тоски пред ней?!)…
Важные афоризмы о смелости
с.220 Судьба боится храбрых, давит трусов. Сенека
с.220 Кто храбр, тот жив, кто смел – тот цел. А. Суворов
объединил бы я их так: Смелого страшится судьба – труса она истребляет
с.221 Различие между храбрым и трусом в том, что первый, сознавая опасность, не чувствует страха, – а второй чувствует страх, не сознавая опасности. В. Ключевский
Как это? Никто беспричинно не устрашается – тяга почтенного историка к каламбуру исказила суть и учинила неясность Во-первых, опасность на три разновидности подразделяется: внезапная, ожидаемая, – и когда причиной себе опасности – ты сам…
Известно – жизнь сама опасна. …При внезапной опасности я не чувствовал страха, – уже после являлся, когда опасность отвращалась, – или сама собою миновалась. …Страшит всегда и храбреца опасность ожидаемая, – что до меня, – когда в декабре 71-го шел на реке Хуту (это где в 1910-ом погибал Арсеньев с казаками от голода, в наводнение в августе, – и орочи их с развилки между Хуту и Буту сняли; там кончался мой первый, с 71-го по 74-й охотучасток); – итак, шли мы на громадного медведя-шатуна, задравшего на крутом склоне к реке кабана, – то сильно боялся (или опасался я? Как эти эмоции различать…), – но все-таки к останкам кабана подбирался, ибо медведина громадный меня третьего дня уже напугал: в глубоких сумерках на прижиме у ручья я его следы за от ичигов напарника сначала принял, – но слишком велико было между следами на снегу расстояние: засветив спичку, я с ужасом увидал – круглый след-то, не овальный! Диаметром как длина сапога мужика размера сорок пятого!; мы были оба «белками» -переломками вертикалками вооружены: выстрел один пулей круглой 28-го калибра, и мелкашечный ствол на рябчиков (себе грудка – остальное приманка соболям); дали карабин на двоих более опытному напарнику, – он принес мне из Хуту (желдорстанция) еще карабин нелегальный – там хотя в магазине патронов-то мощных пять, можно еще перед битвой и шестой в ствол загнать, – но пристреливать я стал – пули падают чуть ли не рядом, совсем расстреляна стволина, прицельно не выстрелишь; однако, дня два оба ружья таскал (семь килограмм железа, однако), – и когда след шатуна почти в темноте увидал, карабин сам собой соскочил с заплеч н`а руки, – так и шел до избушки километр, как тот немец в партизанской деревне: ничего не вижу, – а в десять раз лучше меня слышит медведина, – и в сто раз сильней обоняньем; с таким вооружением слабым, признаться, у меня почти «тряслись поджилки», когда шли на опасного зверину (еще я осознавал всю казуса нелепость – такие мозги, как у меня, «закушает» медведина если); а у напарника карабин был нормальный, – но он, признаться, хотя много опытней на охоте меня и на 10 лет старше, был трусоват, – и при стремительной шатуна атаке мог сплоховать; к счастью, шатун от останков кабана, видимо, едва заслышав нас, дёрнул в панике как мог куда подальше: – на стенку взлетел скальную, едва не вертикальную, – и после уже не появлялся. …В Кенаде у меня остался приятель, Виктор Титов, учитель в школе тамошней физики-математики (между прочим, сынок главы Тульского КГБ, генерала, так что мог и и в центр`ах прохлаждаться, – а он «ошивался» по самым дальним таежным «очкур`ам». …Он тогда в самом северном приморском прибрежном селе Единка учительствовал; в начале мая 74-го (как раз революция португальская меня только что взбодрила по приемничку-транзистору, тогда еще новинка), в числе еще двух парней на казанке на речку Лудзу прохватили… Трое парней отчаянных, громогласных, с юга примчались, за сорок километров, на казанке, – ветер внезапный в мае в проливе хладном Татарском в минуту мог волну крутую, опасную для утлой «казанки» погнать! …Я один в избушке-развалюшке бедовал, отвыкнув от шума, не особо приветливо их встречал… …Осенью того же года 74-го, в Кенаде, где жил охотовед, лицензии нам выдававший и пушнину от нас принимавший, – у стойки в столовой Виктор Титов (сынок генеральский) меня узнал! Сразу же к себе ночевать забрал, – год я в его семье с полным комфортом останавливался, пока не купил в поселке за тысчонку домик с участком; Виктор Титов был страстным медвежатником, почему по сугубым окраинам и «ошивался»; выслеживал медведей терпеливо с двухстволкой 12-го калибра (раз даже на ток глухариный, им же и открытый, по весне на мотике стаскал, – но у меня ни малейшей страстишки к забавам таким (да и самая промысловая охота интересовала как единственный легальный способ спокойствие обрести: отвлечься то есть от тяжких дум-эмоций о будущем жалком общем), – и ни с чем не сравнимый способ на еще не изгаженной поганой «цивилизацией» девственной природе напоследок пожить годы свои оставшиеся сильные) … …А Титов Виктор (он, кстати, к очевидной, даже рисковой храбрости – медведя на 50 метров из двухстволки-гладкостволки стрелять (впрочем, у него вполне мог быть и (нарезной) «стволик» припрятан!) – и неплохим психологом был: от него я про себя узнал: «страшно эмоционален») к нашему в октябре 88-го расставанью (навсегда? Как бы я, Витя, хотел бы с тобой погутарить!) довел счет шкур, с медведей содранных, до сорока! Я же медведя лишь по необходимости из десятизарядного СКСа метров за триста стрелял, и потом из гладкоствольной «тридцатьвторины» однозарядной на брусники-ягоде (коей я собрал тонн двадцать пять): очень уж от работы тяжкой захотелось мясца… Но чтобы ради забавы идти на медвед`я, как, допустим, Лев Толстой в младости, – когда его топтыгин едва не задрал – снял уже спереди скальп, – но успели стрелить зверину соучастники опасной забавы; полагаю, Толстой или хотел свою храбрость кому-то – или себе самому доказать, – или не слишком ценил своих мозгов качество (кстати, еще в школе по его дневникам, я не нашел там что-либо в поучение взять, – как и в «Войне и мире», кстати: одни банальности; не были ли и все сто томов его писаний старанием ум, себе прежде всего самому, доказать? Известно, недостачу качества приходится количеством возмещать); Толстой Лев в комментируемом сборнике афоризмов Федоренкор, как мудрец, обильно представлен, – но я не нашел из него цитат ни единой важной, дабы в свой комментарий взять…
И, наконец, третий вариант опасности, – когда угрозу создаешь себе сам… Окунаюсь в давние воспоминанья… (переношу их – на страницу!!!, – где опасности совмещаются с жизнь определяющими нравственными «передрягами»)…
На мысе (юго-восточном полуострове Владивостока) Чуркине, со всех почти сторон бухты и пролив Босфор, – все тогда почти коров держали К югу от сопки Двухгорбовой – на картах Бурачека, – а в просторечьи Дунькин Пуп (или, вернее, попа: действительно, два ее горба удивительно походят на остренькие такие ягодицы девичьи, – коими вторая моя жена Люся, в ноябре 69-го поначалу меня прежде, чем лицом, прельстила (через лет десять уже после развода с ней, я в какой-то книге увидел, что ее далекая предшественница по стати и тонкости черт лица, послужила прототипом Афины в скульптурной группе Мирона великого «Афина и Марсий»; Люся до сих пор, возможно, того не знает, что обладала лицом и фигурой богини (надо, сказать, и нравом жестковатым: – умела за себя постоять, – и мудростью своеобразной, для женщины достаточной (фото 54, 55) … хотя при расставании видел случайно ее зрелости аттестат: в нем исключительно «тро`яки»! А у меня в двух университетских дипломах – одни «пятаки»; но, как женщина, она хотя, конечно, делала до меня ошибки, – в общении со мной всё было точно с ее стороны по части «рацио», – включая и то, что не тянула с расставаньем, как только на моем двухлетнем содержании, закончила, наконец, затянувшееся на десять лет экономическое образование (и сына родила красавчика, – и дочку потом, почти красавицу (чье зачатие в июне 71-го года на 2—3 лета мое, хотя и горьковатое, семейное продляло счастье); почему такой серый аттестат, я недоумевал, – вроде бы была умна, здрава, почерк хороший, старательный, безупречная грамотность, интересы не `уже, чем у любой женщины, мне встреченной (со слишком глупой, поверьте, не смог бы я и в постель-то лечь); как-никак, со мной шесть лет общалась, умела инстинктивно ко мне подлаживаться: «санкцию» на «феноменальное» мое переселение в Совгавань дала, сказав однажды мечтательно, в лесу за Мингородком во Владике «хорошо бы жить одним в лесу», – что почти и получила … 15 месяцев спустя: поселилась, получив, наконец, диплом, – с полуторалетним сыном в моей времянке, на кромке леса, где в для обоих нас страшную зиму 71-го-72-го одна зимовала; не менее, чем для нее, – и для меня страшную: всего в жизни тягче было такую красавицу, с сыном годовалым, на окраине Курикши, населенной бывшими зэками немало, оставлять; так оказалась такая тонкая красавица жертвой моей особой принципиальности: только увидев ее страшно несправедливый сплошь «трояковый» аттестат, – я ощутил, какую черную зависть испытывали к ее юной тонкой красоте грубые алма-атинские училки! Как они бедной девочке за ту красоту безвинную мстили… ну и у нее самой тоже был характерец… недаром ведь сходная с ней типом 25 веков назад послужила прототипом Афины, богини-покровительницы древних Афин (и богини «правильной» войны!) … …Лет после развода (весной 76-го) уже с десять – встретил в каком-то сборнике по античному искусству Мирона «Афина и Марсий» скульптурную группу – и поразился сходством Афины с моей Людмилой! Что автор скульптгруппы знаменитой Мирон великий, я забыл (тем поразительней, что это еще ранняя классика, до Перикла) … Потом четверть века не мог нигде найти то фото «Афины и Марсия», – в сборниках по искусству везде Афина – довольно плотная, дебелая бабица… только интернет, спаси«бо», вмиг на смартфоне ту фотку мне выдал в двух даже вариациях: подлинника скульптурной группы без рук, – и восстановленной группы, что и ныне в Афинах в зеленом парке, с поднятым мечом, преувеличенно длинным, стоит, полуобернувшись к Марсию безобразному брезгливо, – между ними та самая флейта лежит, кою, по мифу, только что изобрела Афина, – но боги сказали ей на пиру, что портит игра выражение ее лица, – и отбросила флейту капризная богиня, – а Марсий, видимо, натурально ошивавшийся от пира «вечно счастливых» поблизости, флейту подхватил, – и переиграть на ней самого Апполона похвалился; тот (по наущению, конечно, негодующей Афины) предупредил: выиграет – прикажет, как следует, всласть (садист однако!) вымучив, кожу содрать с наглеца… так и оказалось: выииграв, бог искусств приказал повесить несчастного Марсия на сосну-пинию, как следует изистязать, – и кожу затем с живого еще содрать!; высохшая потом кожа на ветру при приближении человека жалобную мелодию издавала; миф, хотя и жестокий, но красивый: «не в свои сани – не садись» – надо бы знать нынешним нашим властителям; надо сказать, так же приблизительно была зла-мстительна – по мнению после развода друга жены Риты – была и моя Людмила: меня выгнала не медля, сразу по первой весне, подав на развод, из полученной ею осенью квартиры: наконец-то красоту богини во всеми богами – кроме Апполона, мое переселение туда (шучу) устроившего (предвидевшего – через 34 года стану его служителем!), наконец-то мою богиню, – в забытой всеми богами Совгавани оценили: дали ей на «двадцатке» 3-хконатную квартиру, в лесозоводе при колонии трудоисправительной работу начотдела зарплаты, с окладом под триста: стала от меня независима, – и, как же без этого?, – возможно, бывший зек`а, «бил» уже клин под такую красивую… «се-ля-ви»… (Хотел бы знать, ведает ли Людмила, что ее дальняя предшественница телосложением и лица типом послужила богини мудрости и «правильной» войны самому Мирону Великому прототипом? По прошествии лет только об этом я хотел бы Люсю, навсегда мне милую, спросить… Красота действительно победительна: давно – да сразу почти!, – забыты все обиды: я сразу сам всё понимал – не создан для семьи! Семья, вернее, – не для таких… А что удалось пожить шесть лет с прототипом богини, «бог`ам», – то есть случаю (счастью) – «…и случай бог изобретатель» (Пушкин), как говорится, спаси«бо-о-о»…
Эк отвлекся от описания третьего типа опасности, – то есть кою навлекаешь на себя сам… А нет – тот развод в конце марта 76-го, по инициативе, ясно, Людмилы, – еще какой передрягой для меня был. На него не явился, написав: – с любым решением согласен. И свидетельство о разводе, не медля, взял – вопреки служительницы ЗАГСА увещеванию подождать: понимал – Люся «захомутала» кого-то более перспективного на брак (от меня получила, что было надо, – сынка и дочечку славненьких): пока «железо горячо» – ей надо было «ковать»… Так что всё правильно: – сия вставка относится и (меньше) к опасностям – и (больше) к передрягам……
…Не далее, как вчера (нынче), в весьма содержательном «Постскриптуме» (что необычно, записан весь почти): там и по Турции, и по Штатам – вышла книга: де вице-президент Джонсон в убийстве Кеннеди замешан был (по приведенным клипам видно – Джон явно не в «своих санях» был: бабник неудержимо-примитивный – видно, – таким не место во властителях, – где таки минимум необходим мыслительности) … Да, заговор реальный финансово-нефтяных властителей, конечно, – сходится отовсюду! – в пользу Джонсона был, – престарелый Зорин Валентин с экрана говорил, – но Линдон в него замешан вряд л`и. …Согласен с престарелым Валентином… он тоже в числе персон для меня роковых… Ни его благообразно-лицемерную физию, ни особенно тон голоса лживо-извинительный, – в 73-74-м (после второго, успешного сезона охоты купил чернобелый телевизор) – аз не переносил… И в отзывах своих язвительно-экспансивных Люське не скупился. Но – не помню в какое из тех двух лето – ее мать прилетела, жила с нами в моей времянке совгаванской месяц… И оказалось: – Зорин Валентин – ее любимый телеэкранный «артист»! Мою особую непереносимость лицемерно-лживого Валентина теща, разумеется, не в силах была простить!.. Не в ней, конечно, была главная причина: в несовместимости меня – как и большинства честных перед жизнью – не нужна экономически! – семья мужчинам…
…Однако возвращаемся к началу воспоминаний… Итак, к югу от этой самой горки Двухгорбовой знаменитой, спускались, по горизонталям приблизительно, улицы Двухгорбовые аж три; на Первой, у самой подошвы горы, где склон уже в крутизну переломился, почва не держится и трава не растет, – стоял некогда засыпной домик, 25-тилетним отцом перед самой войной приобретенный… Уже 24 июня 41-го отца, лейтенанта запаса, мобилизовали, и моя даже еще не 19-тилетняя мать со мной, еще не двух лет, и братиком Саней в животике (родился 19 сентября, потом мореманом стал, – и последние десять-12 лет был Владивостокского порта капитаном) бедовала; правда, как-никак, приходил от отца денежный аттестат, у бабушки, ее матери огород был изрядный, корова, кабана всегда держали… У бабушки Антонины (в девичестве Шульги, за Давыда Дьяченко замуж вышла, потом Иван Заяц ее мужем был, – а в войну пятидесятилетний богатырь Быков Михаил: от всех у нее было пятеро детей; Быков где-то при продбаржах сторожем служил, и частенько нам рыбки, краба приносил) … Мама и сама раскорчевала под огородики аж три из-под леса участка: первый – где магазин теперь «Рыбацкий хлеб», оттуда райисполкомовец любвеобильный погнал ее по весне, – отдал той, что была неуступчивой красавицы податливей; тогда она раскорчевала там как раз, где чуть ниже переваливала хребет грунтовка к бухте Анны (а сейчас асфальт к гаражей массе – и часто там картисты со всего края страшно трещат, окрестноть пугая), – так и оттуда погнал, собака, чуть ли не к бухте с`амой! Вскоре слишком блудливому начальничку, – была всё же правда и тогда, – нашлось подобающее местечко в лагере; после войны мама средний огородец – урожайный, «на шлаке», когда семья, после в 46-м попытки неудачной закрепиться на Кубани (у отца старшая сестра с семьей жила), – или отобрала, или любовница раисполкомовца-бабника сама отдала, – или и ее просто – тогда это было запросто, – вслед за хахалем в лагеря отправили; – огородик в 46-м году чудом пустовал: я с него вниз еще мешки с картошкой лет с 12-ти таскал… Эк я опять – «о, сладость воспоминаний» (Есенин) – от третьего типа опасности отдрейфовал…
С тех-то трех улиц широких Двухгорбового околодка – до старости в памяти остались, – мы лет с восьми коров в лес на бухты Малый и Большой Улиссы пастись гоняли, на бухту Анны, хребеток, на восток, к Бригаде (подлодок) дубнячком залесенный. …Гоняли стадом по четыре-пять коров и столько же пацанов с утра собирались, потом по двое-трое распределялись; в полдень в дубнячок тоже, между рельсами на Большой Улисс и «бассейкой» – первые лет`а пслевоенные собирались, коров доить к запруде довольно глубокой (много народа в ней по пьяни утопло), на Улиссе Малом заводика (на моей памяти всё заносами с ручьев затягивалась: – засыпана давно, на ее месте панелестроительный завод); с подойниками наши матери молодые приходили, коровам пойло приносили, нам перекусить… В 53-м родители околотка наняли пастуха в складчину, – а мы прежними местами праздно бродили, теми же шайками собирались до шести-семи; вечерами по субботам на фильмы в клуб-столовую бригады подлодок ходили (первые годы после ужина мальцов остатками матросского ужина повара кормили) … …И вот как-то шел там такой новый фильм, где был партизан-предатель, с ликом, однако привлекательным… На следующий день мы, как обычно, всей шайкой на железнодорожной насыпи собр`ались, где забор завода кончается, и вскоре берег бухты начинается, и где дорога метров через двадцать на взгорок на большой Большой Улисс взбегает… Место то навсегда осталось в памяти, как и вся ситуация… Я стал предателя привлекательного, дурачась, передразнивать (может, у меня и лицедея задатки были, – но казус тот их раз навсегда отбил) … И схлопотал – не помню, кто первый крикнул, но схлопотал кличку, весьма обидную еще и потому, что я тогда весьма большим «патриотом» был… До этого меня, как помню, сверстники завистливые всегда наделяли кличками (надо же как-то за моё стремление возвыситься развитием – отмстить низко!) – сначала «головастиком» лет до девяти дразнили, потом «кореец» – за щуриться на свету манеру (глаза от «запойного» чтения были к свету чувствительны), – затем «профессор», «голова – дом Советов», – клички неодобрительные, но даже льстительные, – и вот «провокатор», на тебе!.. (Была еще кличка матерщинная, в созвучие с фамилией, – ее терпел, что поделаешь, за нее никого не «отметелил») … Сразу стерпел и эту, «непатриотичную кличку» (наверное, действительно походил на того провокатора симпотного лица типом, – но я-то себя не видел: только много лет спустя мне стали говорить, что на тезку Соломина похож ликом; совсем недавно видел с молодым Соломиным старый фильм, – а лет с тридцати перестал в кино ходить (ну, а сейчас есть телетюнер к компютеру): действительно, не только похож на меня на ф-х 21,22 Соломин того же возраста, лет двадцати, – а даже характером его героя, таким же, как и у меня, бескомпромиссным… не только ликом… (И на Эрнеста Хемингуэя я почти двойниково походил – от 20-ти до 60-и, – пока он жил Все мы дети белой расы единой великой). … Нашли таки соседские шпанцы пунктик у меня уязвимый! Вскоре мы группкой, без меня два-три, по кромке воды бухты Улисса Малого шли, к Тэобразному пирсу подходили, – и вот ровесник, тоже тезка, живший от меня всех ближе, всё обо всём говорили, всем делились, вроде бы даже дружили, – и вот, надо же, – оказывается, недоброжелатель, завистник! Он не глуп (напротив, пронырлив), но туповат был, за решеньями задачек по математике потом п приходил, потом начальником цеха в одном из заводиков судоремонтных чуркинских долго служил… И вот этот тезка, к тому ж, «вякает», на камешке стоя у самой воды, эту сверхобидную кличку! У меня в голове вмиг это всё прокрутилось – мне всего-то четыре месяца оставались до четырнадцати, за год как-то быстро вымахал, вошел в силу: вмиг я к нему подскочил, одним ударом кулака (то лето только по разу бил, неизменно сбивая «с копыт») вниз головой в воду сбил, «юшку» из носа ему пустив… Остальные два-три и не подумали за битого вступиться… и так было во всех летних стычках… …Следующие дни вроде бы мирно бродили, если менее четырех-пяти сходились – опасались уже меня дразнить: был я сильнее каждого из них, справился бы и с троими… Но вот, со мной, на дороге на Большой Улисс шайкой в шесть-семь пацанов сошлись, – их-то пять-шесть на меня, – и меня отважился дразнить еще Гриц (тоже, на том же заводике начцеха был, но рано, в сорок, опочил, – он злой от природы был, вспыльчивый); – и тут же был ударом моего кулака наземь сбит «с копыт», – ни сам он, ни кто-либо из остальных не отважился мне тут же отомстить (и вообще за то боевое лето – и за всю жизнь – ничей кулак или ладонь не коснулись моего лица, за исключением, конечно, двух-трех пощечин от отца) … И пятый случай тем жарким (в отличие от фильма «Холодное лето 53-го», который еще не видел (видимо, серьезный, опасный для правителей-компрадоров фильм) для меня летом, произошел, когда там же собралась чуть ли не уже толпа – со мной до десятка «рыл»; и в такой превосходящей силе, меня отважился Киселенок (имя забыл) дразнить (они соседи с востока через широкий, всегда полупустой огород их, в избушке-развалюшке жили – еще у них снаружи погреб обомшелый засыпной был, старинный; старший брат его Кисель, кажется, Валентин (Киселевы была фамилия) добрый от природы был, мы даже с ним, несмотря на то, что был старше меня года на три, вроде бы даже и дружили: он эрудицию мою уважал, вопросы по истории задавал, – но за год до описываемых «событий», не помню за что – в лагеря угодил (и вообще с наших улиц чуть ли не две трети – или даже три четверти околоровесников в тюрягах-лагерях потом сгинули молодыми, Киселенок тоже, помнится, лет в сорок опочил) … И только тот Киселенок вякнул то слово сверхобидное, – не успел еще его произности, – как сразу ударом моего кулака в подбородок головой в кювет вверх ногами был сбит, – быстрота «атаки» у меня, видно, была завидная: никто из в те боевые лето-осень битых не успевал удар отвратить или хотя бы как-то отреагировать… Но Кисиленок уже настоящий шпанец был, ножик носил, сразу и выхватил, – а я камень схватил и в лес выше дороги отступил, шайка уже солидная (уже трое в ней мною битых) меня окружила, не подступая метров четырех-пяти ближе… Минут десять я в осаде с камнем в руке сидел посередине, не решались ко мне подступиться, – наконец, нервы мои не выдержали, с рыданием из осады вырвался, – никто не преследовал меня, – рады были, что эксцесс завершился: уже я, видимо, опасным «психованным» слыл, – и превосходил каждого из них силой. (да и бегал быстрее каждого из них – не курил) … С тех пор остаток лета меня вся двухгорбовская шпана «ловила», – Киселёнок к ней окатовскую шпану присовокупил, – а я с давним приятелем Генкой Писанко ходил – он был сынок единственный в домике на крутизне, где теперь детский сад западнее школы 59-й, коровы не держали его родители, – но хорошо чадо кормили, – он неплохо (больше старательно) рисовал, учителя хвалили – и довольно-таки простцкие родители о Гене слишком много мнили, выполняли все его капризы, имел он первый на улице велосипед; приземистого Генку, массивного – дразнили «жирой», – хотя он был всего лишь склада такого массивно-сильного; он в начале того лета за эту кличку обидную Маркона цепью велосипедной как следует огрел, – тупого оболтуса, кучерявого блондина, уже почти взрослого, старше нас года на три (их довольно по тем временам богатая усадьба с надстройками-пристройками, сплошной забор зелено-желтым ярко выкрашен был, – рядом, со стороны Двухгорбовых, та усадьба была с теперь площадью Окатовской (а со стороны улиц Кипарисовых стоял барак, в нем в северной части амбулатория была (а потом долго избирательный участок), а в южной части весьма красивая, нас старше года на два-три, девочка Лещинская жила, – пошедшая, правда, (в охотку) рано по рукам… эх, воспоминанья) … Маркон после той «велоэкзекуции», понятно, Генку ловил, – а вдвоем мы везде, и мимо дома Маркона безбоязненно дефилировали, нас так и называли – Дон-Кихотом меня, – а Генку – Санчо Пансой (оба мы зарекомендовали себя «вояками» опасными) … Мой младший братик Саня (который потом капитаном Владпорта стал (всей береговой линией Примкрая в «бандитские» 90-е распоряжался, – должность «расстрельная», однако, – капитана Ленинградского порта таки «укокали» в девяностые; а как братик жив остался – обязан оставить воспоминания), тогда мне вдвое весом уступал, хотя на два года без трех недель всего был меня младше (зато потом, в плаваньях вполне наверстал), был со шпаной всегда «вась-вась» (просто я всегда в нашей пристройке с веранды – читал, – а он на воздухе бегать предпочитал) … …С началом в школе занятий, понятно, распались подростковые шайки, летние страсти забывались. В начале ноября я в Бригаду один, без Генки, пойти на фильм отважился. …Было уже холодновато, поздновато – ужин-то в матросском клубе по расписанию. В ожидании его окончания метрах в двадцати от помпезных – высоких, белых, под Парфенон, – колонн клуба-столовой подводников собралась в темноте, в основном ближней окатовской (на восток от Двухгорбовой сопки) оборванной шпаны толпёшка, курили, ожидая «фильму»… А я от клуба «парфенонного» крыльца бетонного, метров пять до шпаны не доходя, расхаживал, метров 15 туда, столько же назад… И слышу из этой толпы ненавистное незнакомым голосом – «провокатор»… и еще раз или два с этим словом незнакомые голоса, всякий раз назад поворачивал – и возвращался… Гнев возраставший начисто перебивал всякое ощущение опасности… Наконец, услышав знакомый голос Ваньки Карася (Карасёва), чей покосившийся домишко на полспуске дороги широкой на Улиссы от перекрестка Окатовского был, на повороте шоссе по склону, оттуда узенькая дорога петляла между хаотических курятников-свинарников низеньких – населения длиннющего барака от шоссе вниз, что был направо, если спускаться к началу бассейки, выше которой был стадион «учебки» (подводников и торпедокатеристов: от них стекал ручеек с водой на вид чистой – но родители строго-настрого заказывали ее пить; под камнями ручейка водились маленькие рыбки-«семидыры» (должно быть, на порох артиллерийский как-то походили); рыбки – мы их ради забавы лет в восемь-девять ловили – не боялись частых канализации из длинного четырехэтажного здания учебки прорывов… опять поехал я налево от темы) … Надо-то сказать всего, что в начале спуска от шоссе к «стадику» и был домик и огород Карасевых, мимо него мы гоняли коров… И вот, наконец, голос знакомый. …Я уже хладнокровной яростью налилс`я, только на кого спустить ее конкретно оставалось: ту толпешку раздвинул – непредставимо теперь бедно одетые в тряпье парнишки жались друг к дружке поближе, – одной рукой сгреб Ваньку за грудки, другой как следует по скуле двинул, – бедняга тут же, в моей руке, наземь сник… Я из толпы шага на три отступил, там спичку засветили, Ваньку подняли – о, ужас, – летом я только слегка пускал кровя из сопаток, – а тут на всю скулу фингал наползает снизу на глаз сизый!.. …Я – шагом вниз отходить, толпа за мной двинулась, я прибавил шагу – вслед мне камни полетели, палки… Я побежал – толпа метров пятьдесят с криками, воплями и свистом за мной бежала, потом повернула назад, – слышу – один бежит Ванька за мной, пошел шагом, перелез к`ольца из стального троса – навешенная на вбитые в землю рельсы сеть противополодочная, ограда Бригады, тут же остановился, на бок присел, подождал Карася: – Тебе чего? Еще надо? —. – Нет пятака, приложить к глазу?, – а то будет бить батя – …Нашелся у меня медный пятак, расчувствовался, заопасался: что если глаз повредил – совсем у бедняги заплыл; мне стало страшновато – еще никому такую не причинял трамву! Я говорил, его приобняв, со слезами: – Эх, Ваня, Ваня, ну чего ты под руку попался, зачем обзывался… – …Мало-помалу мною овладевал пущий страх: сажали ведь во-всю и молодняк, было слышно, то тут то там: еще ведь пополнения алкали многочисленные лагеря, еще весной ведь только опочил Сталин… Дал тогда зарок себе больше не драться за слова, как бы ни дразнились: могу ведь ненароком и убить, головою на камень, допустим, упади дразнила, сбитый с ног обидчик… … А года через два уже так отяжелела моя рука, что понял я: могу даже убить, вышибив голову из позвонков, одним ударом кулака, – и тем жизнь и себе сломать… …И напоследок еще на кулачную тему В апреле 55-го получила школа деньги за 108 тонн собранного металлолома – комитет комсомола под моим началом организовал настоящий энтузиазм! Тащили со всех сторон после уроков все две тысячи учеников поголовно – от первоклашек до десятиклассников! Подвозили грузовиками. Второе место в Союзе заняли! (А первое, скорее всего, записал металлобрак родной школе какой-нибудь металлургический коминат) … И все, до последней железяки, дабы все знали, что принимается металлом без обмана, принял «н`а руку и н`а глаз» я сам: две недели три часа после уроков не ел, и не разгибался – едва девочки-учетчицы, сменявшиеся через час, записывать успевали… Что интересно, я 105 тонн насчитал, – а 108 тонн на весах на базе … … Что-то эта боксерская тема вчера была у Веллера, в его болтовне на РР (Радио России) после на 21 новостей по воскресеньям, и сегодня у Герасимова Романа на 5-м телеканале, – ни то, ни другое слушать-смотреть не стал, давным-давно для меня утратил мордобой актуальность… но закончу свои воспоминанья по части кулачной. …Школа на деньги за сданный металл радиоузел купила, духовой оркестр, для боксёрского кружка. …Я еще восьмиклассник… надо же самому опробовать боксерские перчатки… против меня паренек приземистый вышел, но кряжистый, сильный, тяжелее меня раза в полтора. Но заметил я, боится – жмурится, закрывает глаза: я задел чуть-чуть, слегка его челюсть пальцем перчатки – он всей тушей на деревянную гимнастическую стенку отпрянул, ажна загудел физкласс; повторил этот номер я еще раз, – и он разозлился, руками размахался тогда, – и я пропустил «по колгану» удар, тоже загудела голова… тут и мне расхотелось дальше боксоваться, конец раунду… Сбросили мы перчатки – и вниз с четвертого этажа, где был спорткласс… и сразу же вверх, назад: я забыл книги, он – шапку… У меня интерес к «мордобою» ради забавы и хвастовства – пропал начисто… … Но года через полтора, уже в 10-м классе, – в другом десятом, занимавшемся на втором этаже в актовом зале, объявился уже во втором полугодии чемпион края среди юниоров Каплан, ростом с меня, но посубтильнее, полегче был тот паренек узколицый, русоватый… Принес две пары боксерских перчаток, на сцене, обучая желающих, «понарошку» боксовал, – и всё меня побоксоваться зазывал А я, хотя уже не был комссекретарь, но в комитет, куда денешься, избрали, – а там замсекретаря; и по привычке двухгодичной старой по этажам шлялся, – и как-то Каплан особенно «блатовал» с ним побоксовать, – и, видимо, девочки оказались рядом: пришлось согласиться, не прослыть трусоватым д`абы (на что не пойдешь ради внимания пола прекрасного!) … И вот прыгает вокруг меня чемпион края, демонстрируя приемов класс, – а я только на пятках поворачиваюсь опасливо, от его выпадов заслоняясь; и первым же своим выпадом подбородок чемпиона слегка-слегка, лишь пальцем перчатки едва задеваю, он падает, считают, – нокаут! (Слаба, все ж таки, даже на слабый удар у человека голова, – хоть у чемпиона бокса, хоть у всякого: нельзя по ней даже чуть-чуть ударять) … Я перчатки быстренько сбрасываю – и поскорее из зала… Оглядываюсь в дверях – чемпиона под руки поднимают вялого… Не помню дальше, наверное, перестал по этажам шляться, или Каплан больше боксировать не предлагал… А я уверовал в резкость удара своего кулака, в скорость реакции… И осознал – чувствительна у нас голова, недолго любого из нас на «тот свет» отправить простым ударом кулака… И тем и себе жизнь сломать… Но в результате всех тех баталий… не так страшно было в младости с Луговой через ущелье на Чуркин добираться. …Случай благий избавил от серьезных во взрослости драк: так, иногда сам разнимал, когда в 58-м в районе нардружины от райкома комсомола сколачивал, по спине раза два-три слегка нечувствительно получал… В девятом классе – продолжить и дальше силою молодецкою хвастать – никого в школе не было в рукосильстве (армрестлинге, по английски) сильнее меня, – включая и десятиклассников. Но к десятому моему классу подрос до богатыря за год семиклассник Портнягин, тяжелее стал меня раза в полтора, – в первом полугодии я его руки еще клал без труда (на переменах мы на тумбочках питьевых бачков на этажах состязались), – но к концу года он, хотя и с большой натугой, таки положил обе мои руки мои своей тушей… комплекции он все-таки был гораздо более моей могучей… … с таким справиться в серьезной драке я имел шанс лишь самым резким ударом… Но, как дочка говорила лет в пять, придя из садика, и про свои успехи все рассказав: «Ну, хватит хвастаться!»… Было в жизни взрослой два-три раза, когда «врезать» наглецам как следует полагалось бы, – да сдержался… и, случаю благодаря, не пришлось пока от нападений защищаться… А напади теперь, в старости, молодняк – что ж, значит, надо бить так, чтоб с разу не вставали… но нет уж, ясно, той надежды на кулак… но верен глаз еще, тверда рука – с оружьем справлюсь в своих стенах даже с малой шайкой… да на меня зачем же нападать: стрелять ведь у охотника старого до самой смерти верный глаз – и без тренажа руки навык… А есть ли – нет стреляло у меня, – кто ж знает…
с.224 Человек может ошибаться. Ошибку в фальшь не ставят… Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок. По крайней мере, идея, на которой все основано, останется незыблемой Не удастся один шаг (вернее бы «первый шаг» – Ю.Б.), второй удастся… Ф. Достоевский
Да, верно, – Федор Михайлович, однако, прозорливец великий! Если бы только слова сии относились – не уже к декабристам отжившему самодержавию российскому*, – а к еще грядущей непобедимой идее коммунистической… ___________________
* На днях с удивлением некоторым прочитал статейку «политолога» Белковского, там он ратует за (считает наиболее вероятной у нас) … конституционную монархию (!) … Возможно, монархисты заплатили изрядно, – а нет: властвующей олигархии как раз выгодно монархической идеей колеблющихся, всяких реставрационных романтиков отвлечь, – как наименее осуществимой в действительности, – в ущерб нарастающей идее коммунистической!.. А круглая жирная Белковского физия сразу мне являла субъекта изрядно беспринципного, – но приходилось вчитываться, поелику лишь такие мельтешат теперь в газетах, на радио и телеке… Правда, к Б-му было некое доверие, думал: хотя циник, приспособленец, – но компетентен… Но нет исключения! Цинизм, бессов`есть – с компетентностью не совместны…!!!
Ошибок больше в деле большом и сложном, – и чем оно продлится дольше, – и территории захватит б`ольшие, людей немерянные сонмы… А задним смыслом – людям свойственно скулить, испускать слюни, слезы лить, размазывать сопли по неизбежным жестокостям, – которыми-то и они спасены, – то есть опасности гибельные, тогда нависшие, – для них спасительно давным-давно м`инули…
И посему и власти выгодно чернить своих предтеч – дабы от ляпов собственных внимание людей отвлечь…
А людям свойственно забывать исторический счет конечный, который только ведь в победе! Она одна великую борьбу венчает – и все, прим`ененное к ней, оправдывает (есле не освящает) … (Это, кстати, и Милюков в 43-м, после «курской дуги», – признал)…
Как в драке страшной удержать руки замах?! В отличие от еды — в историисуровой пересол лучше недосола, – за который расплата – гибель, то есть самая жизнь, – и не только собственная, – но и многих миллионов, доверившихся тебе не только за страх, но и за совесть (так представляю Сталина мышление в период репрессий)…
с.241 Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой. Гораций
Когда вещаешь ты о важном, продуманном многократно, – и импульс эмоциональный дан, – слова приходят будто сами…
с.241 Собеседникам не докучай, замолкни прежде, чем вскричат: «Кончай!» Саади
Золотые слова! Людей, во-время умолкающих, – мало весьма… Не преуспел в сем я и сам… Один из важных моих недостатков… или, точнее, «сверхдостатков»…
с.243 Высказыванье К. Чапека: «Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают», – я бы перевел в афоризм так:
Если бы люди говорили только то, что знают, – какая бы тишина настала
с.243 Молчи или говори что-нибудь получше молчания Пифагор